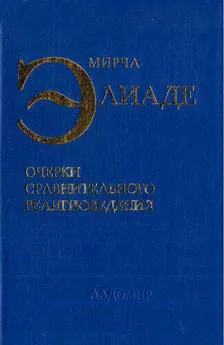Мирча Элиаде - Очерки сравнительного религиоведения
- Название:Очерки сравнительного религиоведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ладомир
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мирча Элиаде - Очерки сравнительного религиоведения краткое содержание
Фундаментальная монография Мирчи Элиаде по истории религий обобщает данные этнологии, сравнительного религиоведения и мифологии. От анализа конкретного материала, связанного с определенными нормами культа (неба, светил, земли, воды и т. п.), автор переходит к наиболее общим проблемам истории религий, функциям мифа и символическим структурам как универсальным способам ориентации человека в пространстве и времени.
Очерки сравнительного религиоведения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если, к примеру, речь идет о так называемом поклонении камням, то не все камни признаются сакральными. Мы всегда обнаружим определенные камни, служащие объектами поклонения в силу своей формы, своих размеров или своих ритуальных функций. Следует заметить к тому же, что речь не идет о поклонении самим камням; сакральные камни почитаются лишь в той мере, в какой они суть не просто камни , но иерофании, т. е. нечто иное , чем их обычное, «вещное» состояние. Диалектика иерофании предполагает более или менее явный выбор, выделение. Предмет становится сакральным в той мере, в какой он воплощает (иначе сказать, открывает) нечто иное , нежели он сам. На данный момент для нас не столь важно, обязан ли предмет этой «инакостью» своей необычной форме, своей действенности или попросту «силе» — или же такая «инакость» проистекает из факта «включенности» предмета в тот или иной символический ряд, обретена в силу какого‑либо ритуала освящения или погружения, произвольного или непроизвольного, в среду, насыщенную сакральностью (сакральную область, сакральное время, в некоторое «происшествие» — грозу, преступление, святотатство и т. п.). Что мы хотели бы подчеркнуть, так это то, что иерофания предполагает избрание , четкое отделение иерофанического объекта от всего остального , что его окружает. Это остальное всегда наличествует, даже если иерофанической становится огромная область — например, Небо, или весь окружающий ландшафт, или «отечество». Отделение иерофанического объекта совершается по меньшей мере по отношению к нему самому , ибо иерофанией он становится в тот лишь момент, когда перестает быть простым профанным объектом, когда приобретает новое «измерение» — измерение сакральности.
Эта диалектика отчетливо проявляется на элементарном уровне вспышкообразных иерофаний, часто отмечаемых на страницах этнологической литературы. Все необычное, уникальное, новое, совершенное или чудовищное становится вместилищем магико–религиозных сил и, в зависимости от обстоятельств, предметом поклонения или страха — в силу того, что сакральное всегда вызывает амбивалентные чувства. «Когда собака, — пишет А. Крюйт, — неизменно удачлива в охоте, она — меаза (вестник беды, дурное знамение). Избыток удачи вселяет в тораджа беспокойство. Магическая сила, сообщающая животному способность брать дичь, должна с необходимостью оказаться фатальной для его хозяина: последний скоро умрет, или же лишится урожая риса, или, в еще более частом варианте, его буйволы или свиньи станут жертвой эпизоотии. Это поверье является в центральных районах Сулавеси всеобщим» [16] Перев. и цит. Леви–Брюлем в кн.: Lévy‑Bruhl L. Primitives and the Supernatural. L., 1936. P. 45–46.
. Совершенство, в какой бы области оно ни проявлялось, пугает; именно в этом сакральном или магическом значении совершенства следует искать объяснение тому страху, который даже в самых цивилизованных обществах проявляют в отношении святого или гения. Совершенство не принадлежит нашему миру. Оно есть нечто иное, нежели этот мир, или же оно приходит к нам из других краев [17] Речь в приведенных здесь примерах идет именно об «избыточности», а не о «совершенстве»: излишняя удачливость, равно как необычное долголетие и т. п., считалась опасной для сообщества (обилие охотничьей добычи нарушает нормальный обмен между природным миром и человеческим сообществом, глубокий старик «заедает век» другого человека и т. п.). — Прим. В. П.
.
Тот же страх или та же боязливая осторожность проявляются в отношении всего чуждого, странного, нового — ибо эти удивительные явления суть знаки силы , которая, будучи почитаемой, может быть и опасной. На Сулавеси, «когда бананы вырастают не на вершине ствола бананового дерева, а на его средней части, это — меаза … Обычно говорят, что это влечет за собой смерть хозяина дерева… Когда две тыквы вырастают на одном стебле (случай аналогичный рождению двойни), это — меаза . За этим должна последовать смерть кого‑нибудь из членов семьи владельца поля, где эта тыква растет. Растение, принесшее эти дурные плоды, необходимо уничтожить. Есть его плодов никто не будет» [18] Крюйт, цит. Леви–Брюлем в: Lévy‑Bruhl L. Primitives… P. 191.
. Как пишет Эдвин У. Смит, «странные, необычные вещи, непривычные зрелища, невиданные обычаи, незнакомая пища, новые способы действования — все это рассматривается как проявления скрытых сил» [19] Цит. Леви–Брюлем, см: Lévy‑Bruhl L. Primitives… P. 192.
. У новогебридских тана все несчастья приписывались недавно прибывшим белым миссионерам [20] Lévy‑Bruhl L. Primitives… P. 164.
. Список этих примеров можно легко пополнить [21] Ср., к примеру: Lévy‑Bruhl L. Primitives Mentality. L., 1923. P. 36, 261–264, 352 и др.; Webster H. Taboo. A Sociological Study. Stanford, 1942. P. 230 и сл.
.
6. ТАБУ И АМБИВАЛЕНТНОСТЬ САКРАЛЬНОГО
Позднее мы вернемся к вопросу о том, в какой мере подобные факты могут рассматриваться как иерофании. Они, во всяком случае, суть кратофании, манифестации силы и потому вызывают страх и почитание. Амбивалентность сакрального есть явление не только психологического порядка (в том смысле, что оно притягивает и отталкивает), но и порядка аксиологического; сакральное есть одновременно «священное» и «оскверненное». Комментируя слова Вергилия «auri sacra fames» («молва, священная для уха»), Сервий [22] Ad. Aen. III. 75.
справедливо замечает, что «sacer» может означать как «проклятый», так и «святой». Евстафий [23] Ad. Iliadem. XXIII. 429.
указывает на ту же двойственность значения в греческом «hagios» , которое может иметь значение одновременно и «чистоты» и «нечистоты» [24] Ср.: Harrison. Prolegomena to the Study of Greek Religion. 3rd ed. Cambridge, 1922. P. 59.
. И с тою же амбивалентностью сакрального мы встречаемся у древних семитов [25] Ср.: Robertson S. The Religion of the Semites. 3rd ed. L., 1927. P. 446–454.
и у египтян [26] Ср.: Albright W. R. From the Stone Age to Christianity. 2nd ed. Baltimore, 1946. P. 321, n. 45.
.
Негативная оценка всякого «осквернения» (контакта с покойниками, с преступниками и т. д.) связана именно с этой амбивалентностью иерофаний и кратофании. «Оскверненное», и, следовательно, «освященное», существует в особом онтологическом режиме, отличающем его от всего, что принадлежит к сфере профанного. Оскверненные предметы и существа практически исключены из профанного опыта — на том же основании, что кратофании и иерофании. Опасно приближаться к оскверненному или освященному объекту, пребывая в профанном состоянии, иначе говоря, без необходимой ритуальной подготовки. То, что называют «табу» — от полинезийского слова, усвоенного этнографами, — это и есть состояние предметов, действий или лиц, «изолированных» и «запрещенных» в силу того, что контакт с ними опасен. Вообще говоря, табу является или становится всякий предмет, действие или лицо, которые либо несут в себе по своей природе, либо приобретают за счет перемещения на другой онтологический уровень некую более или менее загадочную силу . Морфология табу и табуированных предметов, лиц и действий довольно богата. О ней можно составить представление, проглядев третий том «Золотой ветви» Фрэзера, «Табу и опасности для души» или богатейшую фактографию вебстеровского «Табу». Мы ограничимся несколькими примерами, заимствованными из монографии Ван Геннепа «Табу и тотемизм на Мадагаскаре» [27] Van Gennep A. Tabou et totémisme à Madagascar. P., 1904.
. Термин, который в мальгашском соответствует «табу», это «фади», или «фали», — слово, обозначающее все «сакральное, заповедное, запретное, связанное с инцестом, заключающее в себе дурное предзнаменование» [28] Ibid. P. 12.
, т. е., в самой глубине своего смысла, опасное [29] Van Gennep A. Tabou… P. 23.
. «Фади» были «первые прибывшие на остров лошади, кролики, привезенные миссионерами, новые продукты, особенно европейские лекарства» (соль, йодистый калий, ром, перец и т. п.) [30] Ibid. P. 37.
. Здесь мы опять сталкиваемся с тем, что необычное и новое выступает в качестве кратофаний. Такие кратофании напоминают вспышки, ибо, как правило, табу действуют недолго; с момента, как они познаны, освоены, интегрированы в автохтонный Космос, они утрачивают способность нарушать порядок вещей. В мальгашском есть еще один термин, «лоза», который словари определяют следующим образом: «все то, что идет вразрез с законами природы: чудо, катастрофа, бедствие, противоестественный поступок, инцест» [31] Ibid. P. 36.
.
Интервал:
Закладка: