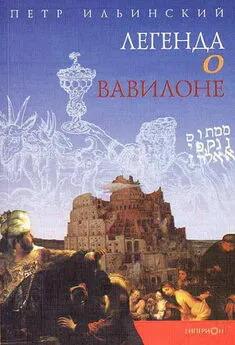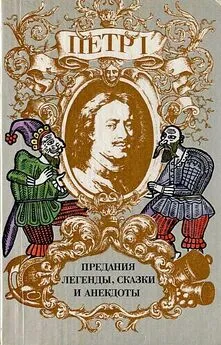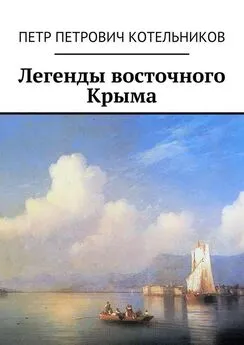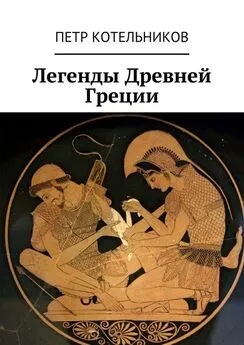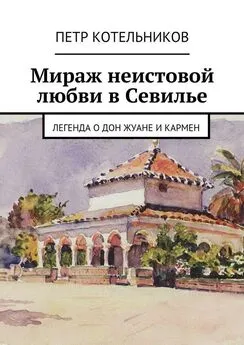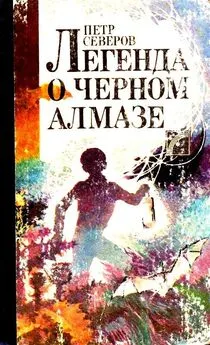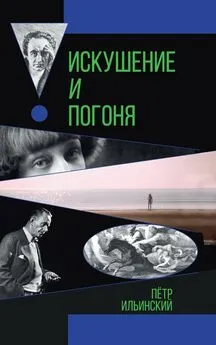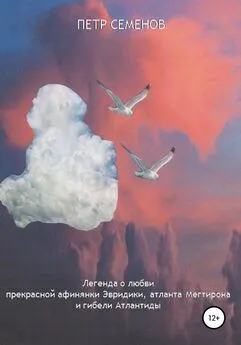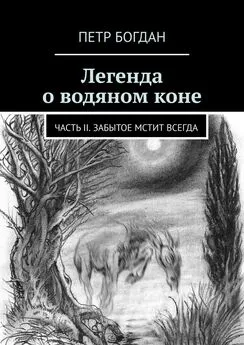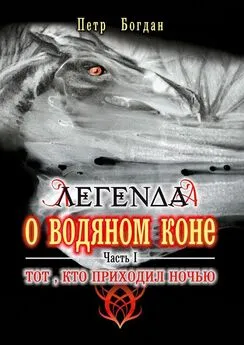Петр Ильинский - Легенда о Вавилоне
- Название:Легенда о Вавилоне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гиперион
- Год:2007
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-89332-143-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Ильинский - Легенда о Вавилоне краткое содержание
Петр Ильинский, уроженец С.-Петербурга, выпускник МГУ, много лет работал в Гарвардском университете, в настоящее время живет в Бостоне. Автор многочисленных научных статей, патентов, трех книг и нескольких десятков эссе на культурные, политические и исторические темы в печатной и интернет-прессе США, Европы и России. «Легенда о Вавилоне» — книга не только о более чем двухтысячелетней истории Вавилона и породившей его месопотамской цивилизации, но главным образом об отражении этой истории в библейских текстах и культурных образах, присущих как прошлому, так и настоящему. Цель автора — размышление, а не открытие, процесс, а не результат, историко-культурное путешествие, а не прибытие в заданную точку. Тем более что история Вавилона отнюдь не закончена, а продолжается на наших глазах.
Легенда о Вавилоне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рискуя вызвать обвинение в отсталости, скажем, что старинное поверье, согласно которому ни одна постройка не могла превышать городской храм, кажется очень верным [87]. Не странно ли или, наоборот, совсем не странно то, что подпирающие небо железостеклянные постройки разных народов подавляют наблюдателя, в отличие от башен барселонского храма Святого Семейства, уносящего зрителя в запредельную высь?
Создатель «Метрополиса» тонко почувствовал охватившую современное ему общество веру в технологическое разрешение всех и всяческих проблем человечества и недвусмысленно показал неизбежность постигающей такое общество катастрофы. Причем не только осязаемой (потоп, разрушения), но в первую очередь катастрофы моральной, эмоциональной: ведь почти все жители Метрополиса тем или иным образом лишены чувств, лишены морали, лишены человеческого, что закономерно ведет ко всем мыслимым и немыслимым бедствиям.
Нет ли здесь еще одного урока Башни? Предостережения о том, что ежели человек начинает демонстрировать свое могущество путем создания чисто технологических чудес (совсем не обязательно высоких башен, есть и другие способы), то ничего хорошего его не ждет? Иначе говоря, не потому ли обречена любая Башня, что ее возгордившийся строитель теряет совесть? Перестает быть Человеком — созданием Божиим?
И не преодолеваем ли мы Башню поодиночке, когда выучиваем хотя бы несколько слов на чужом языке, когда, к своему вящему удивлению, вдруг начинаем слегка разбирать неведомые доселе письмена, когда чуть-чуть лучше понимаем другого, даже необязательно иностранца, пусть соседа, пусть самого ближнего своего? Потому что у него тоже есть свой язык, потому что он — тоже иной, отдельный, отделенный от нас человек, и преодолеть лежащее на пути к нему расстояние — значит преодолеть и саму Башню, ее клеймо, искупить проклятие гордыни. Не таков ли очень маленький шажок в направлении недостижимого Золотого века? Он находится там, не в прошлом, а впереди, в невозможном будущем живущих не ради славы, а ради самой жизни, не ради доказательства своего превосходства, а ради взаимопонимания [88].
Можно даже отважиться сказать, что многоязычие не только проклятие, но и стимул. Не полезно ли осознание того, что в безграничности людских наречий отражается никогда не могущее быть полностью освоенным и перепаханным многообразие мира Господня? Но даже маленький кусочек с этого необыкновенно богатого стола может сделать нас чуть лучше, чуть человечнее. И одновременно труд, который необходимо затратить для принятия этого дара, с определенностью доказывает скромность наших собственных возможностей.
Только отказавшись от гордыни, от чересчур большой любви к себе, от знакомого каждому желания чувствовать себя пупом мира или хотя бы мирка, изменив себя, мы можем стать ближе еще кому-то [89]. Слышащий — будет услышан, а не замечающий других гордый всегда обречен на одиночество разрушающейся башни.
Кажется, именно так заканчивается — или продолжается — легенда о смешении языков и человеческой гордыне — легенда о вавилонском столпотворении. «Вавилонская башня на то и вавилонская башня, что обречена рухнуть» {26} .
Теперь наконец можно расстаться с поднебесным лабиринтом — началом истории и ее вечным символом — и углубиться в историю Месопотамии, дабы понять, почему для Яхвиста центром древнего мира казался Вавилон, царем которого был первый правитель — «сильный на земле» Нимрод; почему городом, из которого вышел праотец Авраам, был Ур, почему на Древнем Востоке прекрасно знали, какая цивилизация была у человечества первой. Поэтому наш путь лежит в землю Сеннаар, или, иначе говоря, в древний Шумер [90].
ИСТОЧНИК
Связь земли и неба город, и мы живем в нем.
Из шумерских текстов [91]При том минимуме места, который Библия уделяет Шумеру, поразительно, насколько точны сообщаемые ею сведения [92]. В частности, начало человеческой цивилизации помещено Писанием именно в землю Сеннаар (точная транскрипция — Шинар, др.-еврейск. שנער), и к этому же мнению сейчас склоняется большинство ученых. Точности ради надо заметить, что египетская культура, если моложе шумерской, то ненамного. Поэтому часто, когда в нашем тексте будут встречаться слова «древнейший» или «первый в истории», то это — с учетом того, что начальная история страны пирамид оставлена нами за скобками.
Знали ли о «равной древности» месопотамской и египетской цивилизаций начальные библейские авторы? Возможно. Однако Шумер к моменту написания яхвистского текста уже давно исчез с лица земли, а Египет не только существовал, но и периодически воевал с древним Израилем, поэтому возводить к нему мировую историю было бы не очень «политически корректно». Вообще, Египет Священного Писания — еще большее исчадие зла, чем Вавилон [93]. К тому же Египет, в отличие от Междуречья, был расположен на краю известного мира, а не в самом его центре. Мир, построенный вокруг Египта, оказывался бы слишком асимметричным.
Древний Египет находится на периферии нашего труда. Причин этому несколько, но упомянем две. С точки зрения историко-философской, как уже говорилось, египетская цивилизация герметична, и следы ее в современном мире сильно уступают шумеро-аккадским [94]. Да и для древнего мира значение шумерской клинописи было очевидно выше, нежели письменности египетской, пусть последняя по времени создания ни в чем не уступает своей месопотамской конкурентке. Но, главное, — человек, по-видимому, оцивилизовался именно в Междуречье, в стране, которую он сделал пригодной для жизни не благодаря природным условиям, но во многом вопреки им. Эти природные условия к тому же часто менялись и принуждали жителей аллювиальных равнин к активным действиям (или адаптации). Что не могло не привести к непрерывной, пусть очень медленной, эволюции.
Потому законы человеческого общежития и социально-духовного развития восходят к землям Месопотамии. Древние же египтяне главным образом изощренно использовали плодоносные дары великого Нила, а потому их цивилизация в какой-то момент просто застыла на месте. Это отразилось и в политической истории страны пирамид. Конечно, с точки зрения древнего израильтянина, Египет продолжал оставаться могучим агрессором, но в поединках с державами Передней Азии — Ассирией, Вавилоном и Персией — земля фараонов на протяжении всей первой половины I тыс. до н.э. была исключительно «страдательной стороной».
Вернемся к скупым, но точным сведениям о Месопотамии, содержащимся в Книге Бытия. Именно с шумеров началась история строительства кирпичных домов, явные следы которой видны в Легенде о Башне («И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести»), что вкупе с другими причинами привело к появлению первых городов — сначала небольших, а потом весьма крупных [95]. И еще одна, до сих пор производящая наибольшее впечатление на окружающих черта шумерской цивилизации, — сооружение громадных храмов-башен, многоступенчатых пирамид тоже отмечена ветхозаветным автором. В связи с этим возникает законный вопрос: насколько возможно то, что в исходной версии рассказа о Башне упоминался не Вавилон, а какой-то другой город, например, относительно известный публике древний Ур? Он был старше Вавилона, обладал внушительным, но постепенно разрушавшимся зиккуратом [96]— и являлся, как известно, прародиной Авраама, вышедшего оттуда вместе со своим отцом Фаррой {27} . Случайно ли это упоминание об Уре, сделанное, по приблизительным подсчетам, лет через 800 после предполагаемого рождения Авраама? [97]Никаких доказательств тому нет, но все же кажется, что в этом месте ветхозаветного текста можно разглядеть следы, пусть очень неотчетливые, оставленные урским зиккуратом в коллективной памяти человечества. Ведь именно урское царство стоит у порога мировой истории — оно было первым высокоорганизованным и структурно упорядоченным государством. Именно там были впервые испытаны все преимущества и недостатки совершенной вертикали власти. Потому возвышение, расцвет и падение Ура произвели колоссальное впечатление на его современников и многие поколения потомков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: