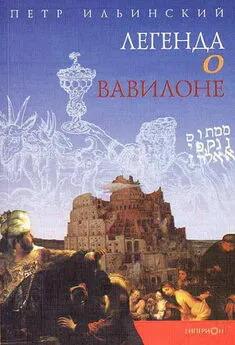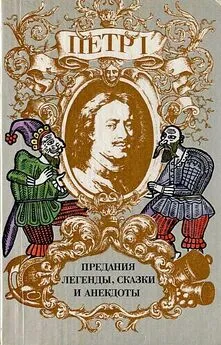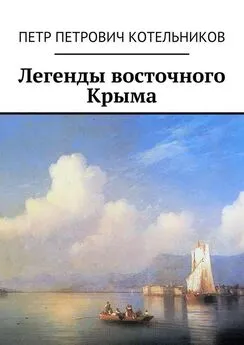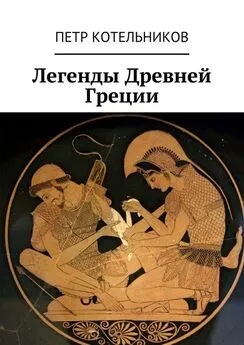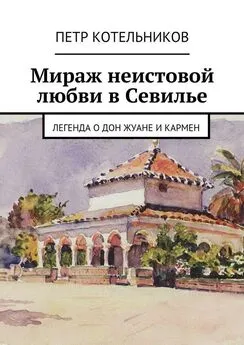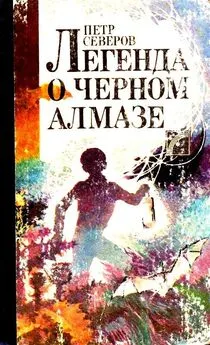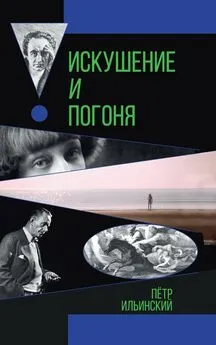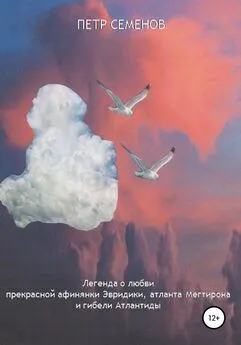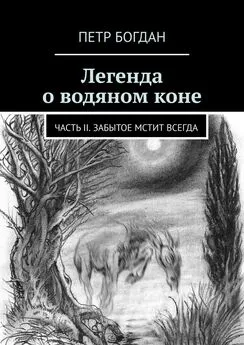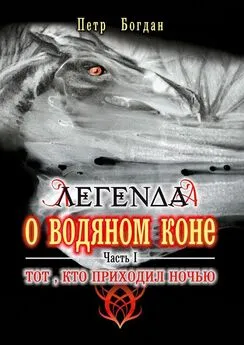Петр Ильинский - Легенда о Вавилоне
- Название:Легенда о Вавилоне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гиперион
- Год:2007
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-89332-143-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Ильинский - Легенда о Вавилоне краткое содержание
Петр Ильинский, уроженец С.-Петербурга, выпускник МГУ, много лет работал в Гарвардском университете, в настоящее время живет в Бостоне. Автор многочисленных научных статей, патентов, трех книг и нескольких десятков эссе на культурные, политические и исторические темы в печатной и интернет-прессе США, Европы и России. «Легенда о Вавилоне» — книга не только о более чем двухтысячелетней истории Вавилона и породившей его месопотамской цивилизации, но главным образом об отражении этой истории в библейских текстах и культурных образах, присущих как прошлому, так и настоящему. Цель автора — размышление, а не открытие, процесс, а не результат, историко-культурное путешествие, а не прибытие в заданную точку. Тем более что история Вавилона отнюдь не закончена, а продолжается на наших глазах.
Легенда о Вавилоне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Последний вариант соответствует популярной ныне среди некоторых ученых гипотезе об исключительно позднем времени создания Ветхого Завета — периоде персидском или даже эллинистическом [29]. Подразумевается, что возвратившиеся из вавилонского пленения евреи успели к тому времени утратить все знания о цивилизации победителей. Гораздо вероятнее версия, принятая большинством специалистов: данный рассказ появился задолго до столкновения иудеев с ассиро-вавилонской культурой — никак не позже VIII в. до н.э. [30]
Впрочем, зацикливаться на этой фразе не стоит: не исключено, что в нынешнем виде она появилась при переписывании или редактировании. Возможно, завершающее притчу сообщение о том, что Господь «смешал языки», находилось уже в самом древнем слое текста, а топографическая привязка этого события к Вавилону появилась благодаря поздней глоссе, аккуратно вошедшей в основное повествование. Заметим, что внимание на такие детали обращать, конечно, нужно, но если не уделять его целому, а увлекаться одним лишь разъятием оного целого на сколь угодно малые составные части, то вряд ли это приведет к сколько-нибудь значимым результатам. В дальнейшем мы постараемся придерживаться только что высказанного правила, и сейчас тоже не будем затягивать обсуждение данного предложения, тем более что смысл древнего мифа отнюдь не исчерпывается объяснением происхождения слова «Вавилон».
С теологической точки зрения давно подмечено, что описываемый в нем Бог вовсе не всеведущ и не вездесущ: ему нужно «сойти» и «посмотреть» на город и башню, дабы принять решение о дальнейших действиях. Легко догадаться, что у этого мнения были оппоненты, утверждавшие, что Господь «сходил» на землю и «смотрел» на башню совсем не в прямом, человеческом смысле слова [31]. В наше время пристальный взгляд наблюдателя уловил хиастическую — стилистически антипараллельную — структуру легенды о Башне: сначала «на всей земле был один язык», затем люди «нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там», после чего «сказали друг другу: наделаем кирпичей», дабы построить «себе город и башню». Далее следует центральная часть дискурса — божественная интервенция: «Сошел Господь посмотреть», после чего события развертываются в обратном порядке: Бог видит «город и башню, которую строили сыны человеческие» и решает смешать «язык их, так чтобы один не понимал речи другого» [32], вслед за чем утратившие взаимопонимание люди рассеиваются «оттуда» — из земли Сеннаар, поскольку Господь смешал «язык всей земли» [33].
Внутренняя выверенность текста, на наш взгляд, сводит на нет попытки некоторых авторов выделить в нем два различных слоя и постулировать их еще более раннее раздельное существование. Если все-таки допустить такую возможность, то очевидно, что эти «прототексты» даже в сумме не составляли финальной легенды. Ведь нельзя получить ничего нового путем механического совмещения каких-то «ранних» фрагментов. Создать что-либо значимое можно лишь после творческой переработки имеющегося материала. Сохранившаяся в веках совершенная композиция сама по себе свидетельствует: автор у нее мог быть только один. До него «легенды о Башне» попросту не было, она появилась на свет не ex nihilo, а благодаря таланту древнееврейского мыслителя.
Можно также уловить, что легенда о Башне содержит и прозрачную иллюстрацию принципа наказания за подобное подобным, хорошо известного из знаменитой Моисеевой максимы: «Око за око, зуб за зуб» [34]. Его также называют, согласно терминологии римского права, «закон талиона» (lex talionis). Сначала обладавшие единством языка и обитания люди использовали этот дар для «заговора» в целях постройки башни и начали ее возводить (преступление). Бог же видит башню, после чего расстраивает людской замысел, в наказание лишая человечество и средства общения и единого местообитания [35].
Однако попробуем уклониться от решения теолого-юридических проблем, а заодно откажемся и от вояжа по морю мирового фольклора, и не станем перебирать собранные Дж. Фрезером данные о существовании иных мифов о постройке до небес, имеющих, на наш взгляд, очень небольшое сходство с библейской легендой.
Очевидно, что сказание о вавилонской башне содержит не одну, а две легенды — одну, эксплицитную, о языковом моногенезе (праязыке) и этическую, повествующую о человеческой гордыне и ее наказании Господом. Каковы были намерения автора, неизвестно, но очевидно, что вторая легенда с течением времени стала главной, а первая исполняла при ней обслуживающую функцию.
Но случайно ли мы назвали легенду о происхождении языков «первой»? Не совсем. Дело в том, что существует одно чрезвычайно значительное указание на то, что рассказ о едином языке и о том, как Бог лишил людей основанного на нем взаимопонимания, более чем на 1000 лет старше самых древних пластов Библии [36].
Содержится оно в одном из наиболее знаменитых шумерских текстов, известном как «Сказание об Энменкаре и владыке Аратты», который был впервые опубликован несколько десятилетий назад одним из крупнейших шумерологов XX в. С. Крамером. Во вступлении к эпосу описывается период, подобный «золотому веку»:
В стародавние времена змей не было,
Скорпионов не было.
Гиен не было, львов не было.
Собак и волков не было.
Страхов и ужасания не было.
В человечестве распри не было [37].
И ниже: «Вся Вселенная, весь смиренный народ // Восхваляли Энлиля на одном языке» [38]. Заметим, кстати, что шумерский рай включал в себя полное человеческое взаимопонимание, а не только языковое. К сожалению, дальнейший текст сохранился не полностью, и описание интересующих нас событий поддается лишь частичной реконструкции. Однако ясно, что другой могущественный бог, «Энки, государь ревнивый… В их устах языки изменил, разногласье установил». Причины такого поступка Энки неясны [39], поэтому проведение явных библейских параллелей не представляется возможным. Однако стоит признать, что сказание о едином языке и его потере существовало задолго до создания яхвистского текста.
Заметим, что в определенный момент европейской интеллектуальной истории, когда некоторые гуманитарии требовали удалить из Священного Писания излишнюю «еврейскость», подобные параллели служили оправданием суждений, постулировавших, что ничего «оригинально иудейского» в Ветхом Завете нет, а почти все его важнейшие составляющие заимствованы у вавилонской и шумерской цивилизаций.
Какие социальные тенденции эти суждения отражали, теперь хорошо известно, и мы не будем здесь уделять им особого внимания, хотя еще не раз вернемся к истории обнаружения библейских параллелей в древневосточной культуре и к их интеллектуальному осмыслению. И скажем, что если даже «легенда о праязыке» была древнее времени жизни Яхвиста, то тем вероятнее, что присутствующее в Библии объяснение многоязычия — легенда о Башне — месопотамским не является. Крамер указывал, что «зиккурат для шумеров представлял связующее звено между небом и землей, богом и человеком» {7} . [40]Поэтому постройка башни высотой до неба для месопотамцев грехом быть не могла. Тем не менее можно при желании допустить, что существовала легенда о наказании человечества многоязычием за какое-то страшное прегрешение, которое мы теперь не можем и вообразить. Скорее всего, ни башня, ни Вавилон, немного неожиданно оказывающийся в последнем предложении библейской легенды, в ней не фигурировали. Каково было содержание того, «самого давнего» мифа, мы не узнаем никогда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: