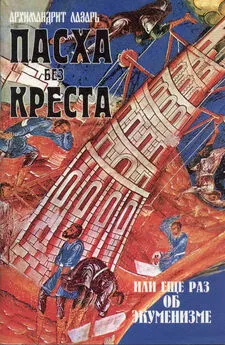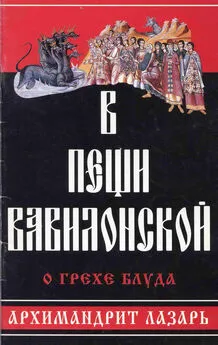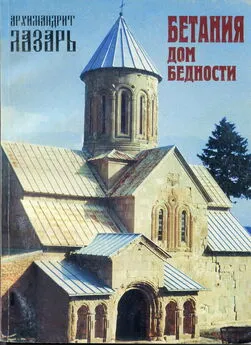ЛАЗАРЬ АБАШИДЗЕ - ПАСХА БЕЗ КРЕСТА ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ
- Название:ПАСХА БЕЗ КРЕСТА ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
ЛАЗАРЬ АБАШИДЗЕ - ПАСХА БЕЗ КРЕСТА ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ краткое содержание
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
© 1998. Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
ПАСХА БЕЗ КРЕСТА ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Необходимо понять, что Православие — не просто учение о Боге и человеке, не философская система, пытающаяся объяснить мир отвлеченными понятиями и абстрактными формулами мысли, а самая настоящая, действительная жизнь в Боге, постоянное живое и деятельное общение с Ним. Никакая иная религия и понятия не имеет о том действительном мистическом опыте, которым обладает Православие. Именно потому мы и верим в святость наших догматов, что все они есть самое прямое отражение, отпечатление на уровне рассудка того, что открыто людям в мистическом опыте. Богословие Церкви, догматы нашей веры есть общее выражение того, что опытно было познано подвижниками-христианами, и это те богооткровенные истины, которые могут быть опытно познаны каждым православным верующим. Само "христианское богословие есть только средство, только некая совокупность знаний, долженствующая служить той цели, что превосходит всякое знание. Эта конечная цель есть соединение с Богом или обожение" [2] Владимир Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Москва. 1991. С. 20.
. И потому: "христианская теория имеет значение в высшей степени практическое и чем мистичнее эта теория, чем непосредственнее устремляется она к высшей своей цели — к единению с Богом, тем она и "практичнее" [3] Там же.
. Учение Церкви самым тесным образом соединено с внутренним опытом, открывающимся в различной мере верующиму. "И вся сложная борьба за догматы, которую в течение столетий вела Церковь, представляется нам, если посмотреть на нее с чисто духовной точки зрения, прежде всего неустанной заботой Церкви в каждой исторической эпохе обеспечивать христианам возможность достижения полноты мистического соединения с Богом. И действительно, Церковь борется против гностиков для того, чтобы защитить саму идею обожения как вселенского завершения: "Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом". Она утверждает догмат Единосущной Троицы против ариан, ибо именно Слово, Логос, открывает нам путь к единению с Божеством, и если воплотившееся Слово не той же сущности, что Отец, если Оно — не истинный Бог, то наше обожение невозможно. Церковь осуждает учение несториан, чтобы сокрушить средостение, которым в Самом Христе хотели отделить человека от Бога. Она восстает против учения Аполлинария и монофизитов, чтобы показать: поскольку истинная природа человека во всей ее полноте была взята на Себя Словом, постольку наша природа во всей своей целостности должна войти в единение с Богом. Она борется с монофелитами, ибо вне соединения двух воль во Христе — воли Божественной и воли человеческой — невозможно нам достигнуть обожения: "Бог создал человека Своей единой волею, но Он не может спасти его без содействия воли человеческой". Церковь торжествует в борьбе за иконопочитание, утверждая возможность выражать Божественные реальности в материи как символ и залог нашего обожения. В вопросах, последовательно возникающих в дальнейшем — о Святом Духе, о благодати, о самой Церкви — догматический вопрос, поставленный нашим временем, — главной заботой Церкви и залогом ее борьбы всегда являются утверждение и указание возможности, модуса и способов единения человека с Богом. Вся история христианского догмата развивается вокруг одного и того же мистического ядра, которое в течении следовавших одна за другой эпох оборонялось различным видом оружия против великого множества различных противников. Богословские системы, разработанные в ходе и в течение всей этой борьбы, можно рассматривать в их самом непосредственном соотношении с жизненной целью, достижению которой они должны были способствовать" [4] Владимир Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Москва. 1991. С. 10–11.
. Цель эта — соединение человека с Богом. В таком случае они и воспринимаются нами как должно — как самая основа христианской жизни.
А сегодня слова "догмат", "догматическое богословие" для некоторых стали чуть ли не ругательными, как будто догмат — враг жизни. Но отсутствие догмата — открытая всем заблуждениям дверь. Адогматизм отучает христиан мыслить, отличать истинное учение от ложного. Догмат или ересь — это свет или тьма, добро или зло, любовь или ненависть, жизнь или смерть. Приятие догматов есть единственное условие познания истины и освобождения человека от всякой лжи и от исполнения дел "отца лжи". Ревность без истинного, благодатного знания догмата может стать фанатизмом, точно так же знание без ревности может оставаться мертвым, не ведущим ко спасению.
Церковное христианство стоит за догматы, но тем не менее проявляет терпимость к заблудшим. По словам святителя Феофана Затворника, "истинная веротерпимость искренне любит и благоговейно чтит единую веру свою (то есть веру православную), ревнует о чистоте и о славе ее, радуется возвышению ее, но при этом дает место близ нее и другим верам не потому, что считает их равночестными и спасительными, а по снисхождению к немощам заблуждающихся. Она не теснит, не гонит, не преследует; но вместе не упускает случая с любовью указывать заблуждениеи предлагать свободному убеждению и совести выбор лучшего" [5] Святитель Феофан Затворник. Слова на Господские и Богородичные дни.
.
Догмат осуществляет строгий суд над теми христианскими обществами, которые игнорируют долгую историю Церкви и начинают строить заново свое собственное "христианство". В догматическом богословии выражена сущность христианской веры, богооткровенное знание, проповеданное в Евангелии, возвещенное апостолами, раскрытое и пронесенное через века Отцами Церкви, утвержденное в опыте жизни и смерти величайших Святых. И потому догмат — это меч херувимский, ниспадающий между Духом, который есть истина (1 Ин. 5, 6) и духом заблуждения (1 Ин. 4, 6), то есть между Христом и антихристом, между христианином и миром. Догматы правой веры являются описанием условий возможности нашего спасения! Может ли наступить эпоха, в которую догматические разногласия между богооткровенным преданием и ересями стали бы неактуальными?
Индифферентизм в вопросах веры есть язва рода человеческого. Святитель Феофан говорит: "Если одна только вера ведет ко спасению; так что все иноверия не спасают, а влекут за собою пагубу, тот, кто удерживает в них, не губит ли всех, кого удерживает? Когда свирепствует мор и искусный врач изобретает единственное врачевство, то всякий, кто уверяет: "ничего, и то лекарство хорошо", губит всех, кои его послушают. Таков индифферентизм: он расслабляет и убивает дух. Содержащий его, почти то же, что безбожник, ибо явно, что для него вера — есть стороннее дело, что он содержит ее по обычаю, в подражание другим или, еще хуже, будто какое-либо средство политическое. Все сии укоры падают и на того, кто говорит: все равно, лишь бы была христианская вера, а то какая-нибудь. Откуда эта мысль? Апостолы с такой ревностью заботились о единомыслии, так деятельно старались восстановить его, когда оно как-нибудь нарушалось, так строго вооружались против разномыслящих, что определяли им отлучение, а ныне вошло в обычай говорить: все равно, лишь бы христианская, хотя бы то была и ересь? Как же Господь говорил: Аще Церковь прослушает, буди тебе, яко мытарь и язычник (Мф. 18, 17)? И потом, как же Церковь во все свое продолжение так сильно ратовала и вооружалась против всех разномыслящих? Будто все сие так?" [6] Святитель Феофан Затворник. Начертание христианского нравоучения. Т. 2. Москва. 1994. С. 360–361. См. также статью протоиерея Александра Шаргунова "Меч Херувимский", "Троицкое Слово", 1990.
Интервал:
Закладка:
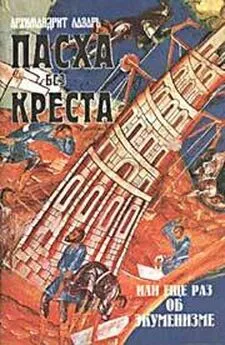

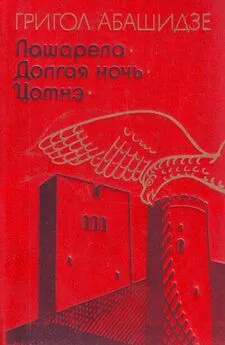
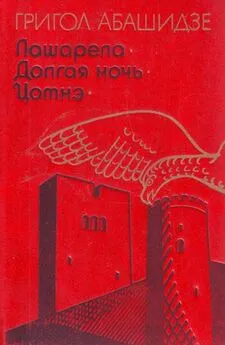
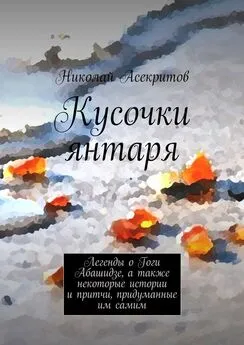
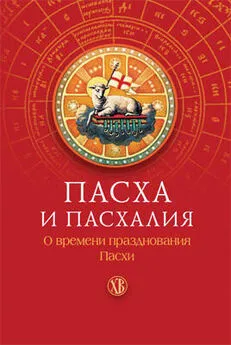
![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/1070699/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io.webp)