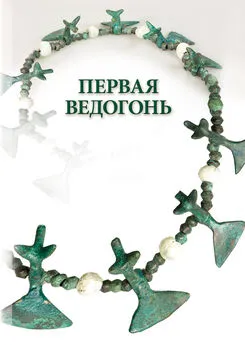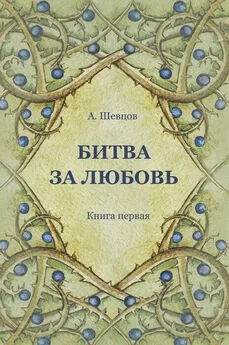Александр Шевцов (Андреев, Саныч, Скоморох) - Первая Ведогонь
- Название:Первая Ведогонь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шевцов (Андреев, Саныч, Скоморох) - Первая Ведогонь краткое содержание
Это упрощённая электронная версия книги "Первая Ведогонь", в которой только самое главное.
Книга является первой публикацией работ Исследовательской мастерской Академии самопознания. В ней использованы материалы исследования, проведенного в ноябре 2004 года. Основой для исследования послужили этнографические материалы о сне, собранные автором И.Скоморохом (А.А.Шевцовым) 1985–1991 годах у мазыков (этнические русские, потомки Владимирских офеней).
«Ведогонью называлась когда-то у славян наука и искусство использовать сны, хотя это очень узкое ее понимание. По большому счету, это путь или мировоззрение ведуна, путь знания, отличающийся от пути колдуна, который назывался Ерегонью».
Как и все работы Академии Самопознания, исследование посвящено самопознанию и ведется в ключе культурно-исторической психологии.
Это первая часть науки, посвящена познанию себя и своей души через снотворение.
Первая Ведогонь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако это исходное положение может быть поставлено под сомнение, что еще в 1950-х годах было продемонстрировано учеником Л. Витгенштейна Н. Малколъмом. Согласно его построениям, представление о сновидении как о реальном процессе не имеет смысла, так как не подлежит верификации. Единственный критерий сновидения — это рассказ о нем, и поэтому понятие сновидения производив не от психического опыта спящего, а от рассказа проснувшегося. Сон — не то, что снится спящему, а то, о чем рассказывает бодрствующий.
Книга Малколъма "Состояния сна" вызвала оживленную философскую полемику, однако нам нет нужды входить в подробности последней. Для культурно-антропологического анализа феномена сновидения важно одно: понимание последнего сводится к исследованию практики "рассказывания снов" ( dream telling )» (Панченко, с. 10).
Для культурно-антропологического анализа, похоже, важно одно: быть в одном ряду с англоязычной наукой. А это значит, кроме всего прочего, еще и уметь делать бестселлеры, для чего улавливать любые признаки сенсационности. Для этого надо захлебываться от восторга перед любой возможностью что-нибудь поставить под сомнение. И не важно, оправданно твое сомнение или нет, лишь бы нашлась такая формальная возможность, особенно если это позволяет заломить мозги и руки собственному сообществу.
Не знаю, чем в действительности занимался Малкольм, но Витгенштейн определенно много играл в логические игрушки. И это большой искус — прикладывать логистические подходы к живой жизни. Жизнь они, пожалуй, не объясняют, но зато в мозгах ученых вызывают настоящую сенсацию. А как еще воспринять утверждение: Сон — не то, что снится спящему, а то, о чем рассказывает бодрствующий, — как не восклицанием: я поражен тем, как необычно устроены его мозги! Какое необычное видение действительности!
В общем, большая часть подобных псевдонаучных игр — это театр исключительности, который Панченко смог использовать для внедрения в сознание простых русских фольклористов лишь потому, что фольклорист, оставаясь в рамках своего дела, действительно исходно исследует сон через запись его рассказа сновидцем. Все остальное — просто безграмотность и Малкольма и его последователей. Безграмотность, кстати, хорошо оплачиваемая, а значит, хитрая и кажущаяся, почему Панченко и отбрасывает «всю полемику», которая явно доказывала, что Малкольм исказил истину. К времени Малкольма в мире было проделано столько приборных исследований состояния сна, что сомневаться в существовании этого явления не могли даже физиологи.
Поэтому я не буду доказывать, что сон не верблюд, и не буду биться за страдальца — народ наш, — а возьму из утверждений Панченко лишь то, что может нам пригодиться для нашего исследования. Оно заключено в последней фразе: Для культурно-антропологического анализа феномена сновидения важно одно: понимание последнего сводится к исследованию практики «рассказывания снов».
Культурно-антропологическое — это значит, ведущееся через понимание культуры и понимание человека. Но фольклористы часто предпочитают читать это как: через понимание культуры и человека в ней. Человек ими выбрасывается, и это видно прямо в том же предложении: для культурно-антропологического исследования важно одно: исследовать будем рассказывание, то есть культуру, но не человека.
Допускай Панченко возможность исследования человека, он тут же вспомнил бы, что во время записи сна от своего «информатора», фольклорист тоже существует и существует как живой человек, а не как сервомеханизм, приспособление к диктофону, нажимающее на нем кнопки. А слушая, он, что просто необходимо вытекает из задач семиотики, упомянутой в имени серии, понимает рассказчика. И понимает он его, если учесть, что он человек живой, а значит, остается предметом психологии, переживая рассказ вместе с рассказчиком.
Иными словами, фольклорист при записи рассказа о каком-нибудь архаичном и редком обычае, может не иметь никого собственного опыта в отношении того, что ему рассказывают. И просто не замечать кучу вещей, которые упускает. Например, так они сейчас не знают, что спрашивать о колдунах, кроме обычного: а были ли в вашей местности знающие люди? Но вот в отношении сна он сам обладает опытом, равным опыту рассказчика, им он его и понимает, из него мог бы брать множество вопросов, необходимых для понимания.
Но он обязан по долгу службы задушить это в себе и задавать только вопросы из вопросника, утвержденного на пославшей его на сборы кафедре. А кафедра эта, к примеру, если это институт Славяноведения, должна оправдывать свое имя и жестко отсекает то, что не относится к ее тематике. Условно говоря, если мы — славяноведение, то отсеки все, что не славянское. Шутка, но близкая к сути.
Если ты фольклорист, собирай описания сна, как фольклорные тексты, а не как психологические описания. Этого требует честь члена научного сообщества: не отбирай кусок у соседа, если он выжил в драке за этот кусок. Убьет.
И фольклорист железно придерживается кодекса чести фольклориста: когда он собирает записи о снах, он четко держит перед глазами список того, что считается фольклорным рассказом о снах: вещие сны, видения, сны о полетах, суеверия и суеверные толкования снов… И тому подобное, но ни шагу влево или вправо. И, соответственно, ни шагу в то, что понимание сна не сводится к исследованию практики рассказывания снов, а вполне может быть и исследованием собственной практики сна, или практики понимающего сопереживания фольклориста.
Это что касается игр вокруг науки, а точнее, внутринаучного местничества. Но что позволило Панченко выстраивать свои методологические принципы? Нет ли за этим какого-то действительного основания?
Думаю, есть, и именно ради него я и привел эту крайнюю точку зрения. В основе всех нападений одних научных сообществ на другие, изучающие сон, лежит сомнение не в том, что никакого сна нет, а есть только рассказы о сновидениях, а в том, что, рассказывая сновидение, ты рассказываешь о чем-то действительном. Иными словами, рассказ о сновидении, когда его запомнили люди, становится своего рода «вещью», живущей в культуре. Тем более он овеществляется, будучи записан. Вот эта вещь действительна, но вся эта ее действительность ценна только тем, что ученый-материалист знает, как с ней обращаться.
В конце концов, такой «сон» хотя бы в папку положить можно и даже опубликовать в книжке.
А вот что делать с действительным сном, никто из «настоящих ученых» не знает, а психоаналитики — это не настоящие ученые!
Решение, казалось бы, просто: начинайте изучать, создавайте школу изучения снов; но вместо этого был найден выход еще проще, потрясающе проще: просто объявить сны несуществующими! А заниматься только рассказами о них. Жопа есть, а слова нет… Простите.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: