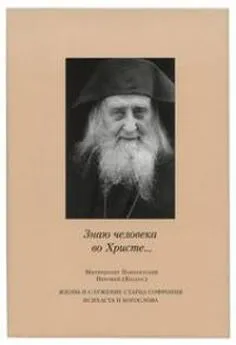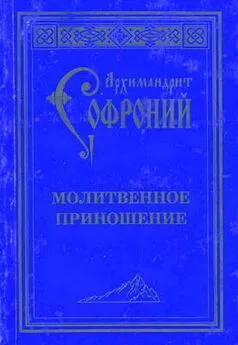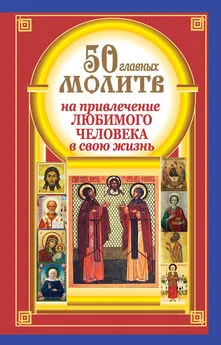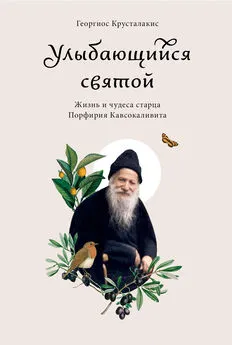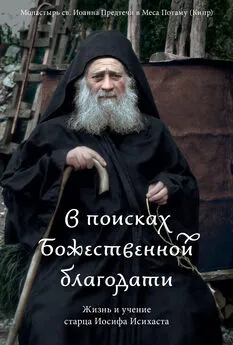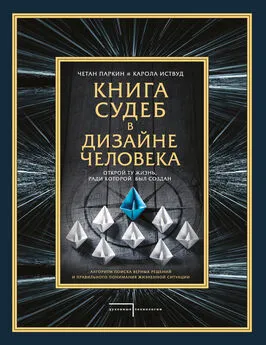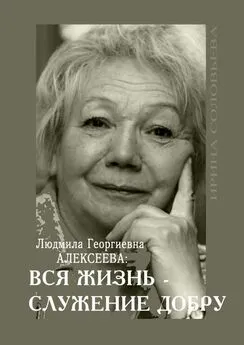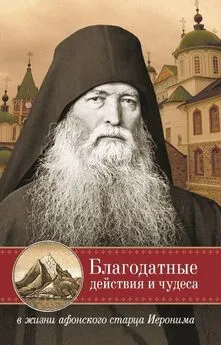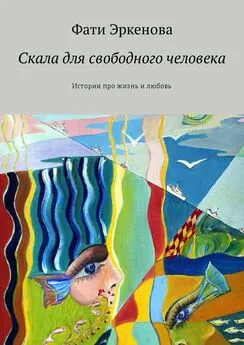Иерофей - «Знаю человека во Христе...»: жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова
- Название:«Знаю человека во Христе...»: жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иерофей - «Знаю человека во Христе...»: жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова краткое содержание
«Знаю человека во Христе...»: жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он молился и дома, и в святом храме, куда его водили родители. Видимо, это было не просто молитвенное правило, а усердная, обращенная к Богу молитва, поэтому она связана с ранним опытом богосозерцания, который старец помнил всю свою жизнь и который остался неизгладимым в его памяти. Он пишет, что познал живого Бога с младенчества: бывало, что няня выносила его на руках из святого храма, и он видел город освещенным "двумя родами света", и, как он пишет, "солнечный свет не мешал ощущать присутствие иного Света". И признается: "Воспоминание о нем связывается с тихой радостью, наполнявшей тогда мою душу" [67] Там же. С. 41.
.
"Спор с Богом" — память смертная
Когда человек взрослеет, приобретает жизненный опыт, развиваются его мыслительные способности, он обычно сталкивается с разными личными или общими проблемами и начинает "спорить" с Богом. Он не может постичь рассудком, как Бог действует в жизни и в истории, не нарушая при этом человеческой свободы.
Трудность в том, что существует огромное различие между нетварным и тварным. Нетварное (Бог) не имеет ни начала, ни конца и не подлежит нетлению, а твари прилежит и начало, и конец, и нетление. Безначальный, бессмертный и несотворенный Бог непостижим для смертного, тварного человека, созданного во времени. Только во Христе ипостасно соединилось нетварное и тварное. Существует также различие между Божественной сущностью, недоступной для человека, и энергиями, которым он может быть причастен. Поэтому апостол Павел возглашает: "О, бездна богатства, и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?" [68] Рим. 11:33–34 .
.
Неведение путей Божиих порождает проблему "теодицеи", "спора" человека с Богом. Этот странный и мучительный "спор" выразительнейшим образом показан в книге Иова.
В душе старца Софрония такой "спор" начался в детстве.
Дети в возрасте восьми-десяти лет начинают размышлять и задаваться вопросами бытия: о жизни и смерти, о смысле бытия, о временности земной жизни — и начинают осознавать смерть как непредотвратимый факт, что вызывает в них напряженные искания.
Старец переживал эти проблемы с особой остротой. С возрастом его молитва к живому Богу приобрела иной характер, его ум "все чаще возвращался к размышлению о бесконечном, о том, что пребывает всегда". Это происходило главным образом в его беседах с младшим братом Николаем [69] Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. СТСЛ, 2005. С. 9
.
Вопросы о смысле бытия рождались под влиянием трагических событий той эпохи: человечество сотрясали страдания Первой мировой войны. Старец не мог примириться с мыслью о смерти стольких тысяч неповинных людей. Он думал, что, окажись он в их рядах, ему самому пришлось бы убивать неведомых ему людей, а те стремились бы покончить с ним. Вместе с этим чувством рождались различные вопросы:
…где смысл нашего явления в сей мир?
И я… зачем я родился?
Ведь я только что начал входить в осознание себя
человеком: внутри загорался огонь благих желаний,
свойственного молодости искания совершенства, порывы
к свету всеобъемлющего знания. И все сие отдать? И таким образом!
Кому и для чего?
Ради каких ценностей? [70] Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. СТСЛ, 2005. С. 10.
Такие вопросы вызывали в нем ощущение смерти с особой остротой, вели к осмыслению бытия. Позже он понял: это был не просто переход от детского возраста к подростковому, как у большинства детей, а божественный дар памяти смертной. И этот дар — память смертная — преследовал его постоянно на протяжении всей жизни. Однако тогда он ничего не знал об этом даре [71] Там же. С. 20.
.
Вопрос был откровенным: "Вечен ли я, как и всякий другой человек, или все мы сойдем во мрак не-бытия?" Сей вопрос не был выработкой ума или мысленным упражнением: он обжигал сердце подобно "неоформленной массе раскаленного металла". Глубоко в сердце укоренилось "странное чувство", не похожее ни на что другое из его переживаний: чувство "бессмысленности всех стяжаний на земле" [72] Там же. С. 10.
.
В первой главе, "Благодать смертной памяти", старец описывает, анализируя, тогдашнее состояние, которое приготовило его к последующим великим опытам. Он с благодарностью высказывается об этом периоде: "О, ужасы этого благословенного времени! Никто не в силах добровольно пойти на эти испытания" [73] Там же. С. 12–13.
.
Хотя внешне он был тогда спокоен и жил привычной жизнью, но в глубине существа его занимали проблемы бытия. Даже во время Первой мировой войны с сокрушительными для всего мира последствиями внимание старца занимало скорее его "внутреннее крушение". Вопросы возникали последовательно, один за другим. "Если я умираю действительно, т. е. погружаюсь в "ничто", то и все другие, подобные мне люди, также бесследно исчезают. Итак, всё суета; подлинная жизнь нам не дана. Все мировые события не больше чем злая насмешка над человеком" [74] Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. СТСЛ, 2005. С. 11.
.
Осознание и переживание смерти вышло за пределы его собственной жизни: "одним меньше", — и принимало характер всемирного богословского противоречия. Через смертную память он жил внутри себя смерть всего: людей, земли, вселенной и даже Самого Бога, "Творца мира". Все поглощается "тьмою забвения". И старец признается: "Овладевший мною дух отрывал меня от земли, и я был брошен в некую мрачную область, где нет времени" [75] Там же.
.
Это "вечное забвение как угасание света сознания" наводило на него ужас и сокрушало его. Перед ним постоянно возникало "видение бездны". Глазами он видел землю, как обычно, но, как он пишет, "в духе я носился над бездонной пропастью". Немного позже прибавилось и другое "явление". "Предо мною мысленно возникла преграда, которую я ощутил как свинцовую толстую стену. Ни один луч света, умного света, не физического, как и стена не была материальною, не проникал чрез нее. Долгое время она стояла предо мною, угнетая меня" [76] Там же. С. 12.
.
Он видел, что вместе с его смертью с ним умирает весь мир и даже Сам Бог. Это привело его к мысли, что человек "является <���…> центром мироздания. И в глазах Бога, конечно, он драгоценнее всех прочих тварных вещей" [77] Там же. С. 10.
.
В этот период жизни он пребывал в неведении о великом даре памяти смертной, о которой он узнал позднее, читая творения святых отцов Церкви. Но именно это неведение помогло ему, носителю сего божественного дара, не впасть в тяжкий грех тщеславия [78] Там же. С. 14.
.
Это внутреннее состояние не раз приводило к большому искушению: "Я был испытан не раз страшными помыслами — гнева на Создавшего меня". Будучи не в силах понять все, что происходило с ним, он вступил в борьбу с Богом и мыслил о Нем как о "враждебном Властелине". В нем рождался гнев от лица всех людей, которые живут этой ужасной жизнью, и, как он пишет, "я сожалел, что нет у меня такого меча, которым было бы возможно рассечь "проклятую землю" [79] Ср.: Быт. 3:17 .
и тем положить конец отвратительному абсурду" [80] Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. СТСЛ, 2005. С. 14.
.
Интервал:
Закладка: