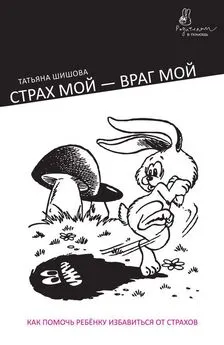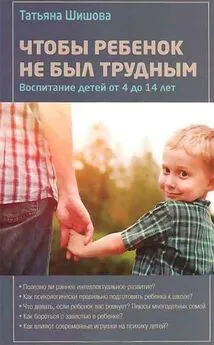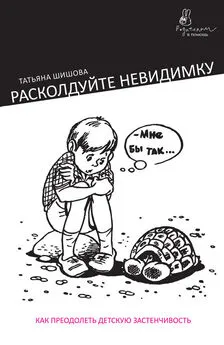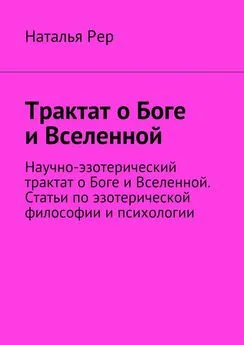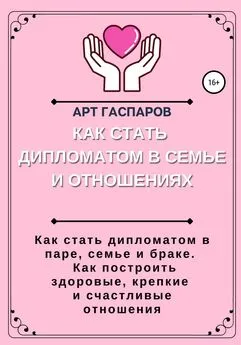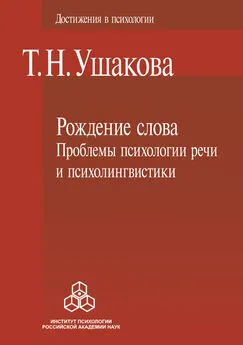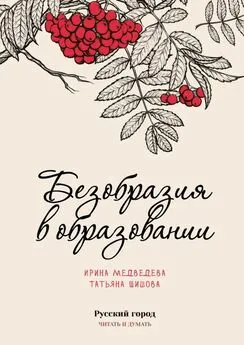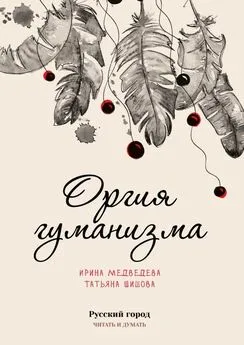Татьяна Шишова - Статьи за 10 лет о молодёжи, семье и психологии
- Название:Статьи за 10 лет о молодёжи, семье и психологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Шишова - Статьи за 10 лет о молодёжи, семье и психологии краткое содержание
Статьи за 10 лет о молодёжи, семье и психологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иллюстрацией к сказанному может в какой-то мере служить история воспитания аутичного ребенка, описанная в книге его воспитателя Сергея Александровича Сошинского «Зажечь свечу» (М., 2005). Мальчик Андрюша, попавший в дом к Сошинским, когда ему было 4 года, страдал очень тяжелой формой аутизма, был практически неконтактен. Речи у него тоже, считай, не было. Даже те немногие слова, которые он знал, Андрюша далеко не всегда применял к месту. Иногда он на каком-нибудь слове «застревал» и бессмысленно повторял его раз двадцать, а то и пятьдесят. В 5 лет он не узнавал изображенных на картинках животных или людей. «Очевидно, — пишет Сошинский, — слова никак не сопрягались с образами, особенно одушевленными».
На первом этапе его приучали просто повторять слова, даже без их понимания. Это было невероятно тяжело, но пробиться на уровень понимания оказалось еще труднее: мешал недостаток целостности восприятия. Фрагменты не складывались в единую картинку, образа не получалось. Путем многократных повторений, буквально «натаскивания» Сошинским удалось все-таки научить Андрюшу говорить и до определенной степени восстановить целостность его мышления. Когда наконец броня аутизма была частично пробита и произошел сдвиг в лучшую сторону, мальчик стал довольно быстро развиваться, не только повторять заученное по шаблону, но и понимать. А потом… Потом воспитатели заметили, что «Андрюша стал выдавать отдельные знания, которые он у нас еще не приобретал. Например, весной 1999 года Наташа (супруга С.А. Сошинского. — Т.Ш.) начала с ним изучать цвета и вдруг выяснилось, что некоторые названия он знает, хотя прежде ни у нас, ни у родителей он этих знаний не проявлял. Знания лежали в нем скрытно, возможно даже не вертелись в уме и все же присутствовали. Знал Андрюша и некоторые буквы. Видно, родители показывали ему их. Но пока мышление Андрюши было блокировано аутизмом, эти знания лежали неподвижно, и, возможно, сам Андрюша о них не догадывался. Это касается не только конкретных знаний, но и уровня мышления. В какой-то непроявленной форме, по-видимому, у него мышление было более сложное, чем можно было подозревать… С неразвитым речевым мышлением Андрюша, конечно, не мог „понимать все“, но понимал больше, чем могло показаться по его поведению. Через четыре с половиной года после его появления у нас выяснилось (к моему великому изумлению!), что Андрюша помнит многое о своей жизни в отчем доме и о первом появлении у нас. Это подтверждает предположения о большей глубине его внутреннего мира и большей сложности мышления в то время».
А ведь впервые очутившись в доме Сошинских, Андрюша, казалось, никак не отреагировал на то, что родные привели его и ушли. Он никогда не вспоминал о родителях и не узнавал мать на фотографиях. Но оказывается — и знал, и помнил, и переживал. Образы близких людей и, в частности, матери, хранились в глубинах Андрюшиной памяти, но выразить это знание и свои переживания он не мог, поскольку болезнь блокировала его связь с внешним миром.
«С момента появления Андрюши у нас, — продолжает автор книги „Зажечь свечу“, — меня всегда поражала в нем двойственность. Неспособность сказать и понять простейшие мысли, полная интеллектуальная беспомощность его поведения. И в то же время было постоянное чувство наличия у него „внутреннего ума“… У него есть молчаливое, глубокое, неповрежденное я и неповрежденный молчащий интеллект <���…> который мог бы воспринимать, мыслить, понимать целостно, глубоко, развернуто, если бы к тому были средства, если бы рядом с ним и вровень ему действовала вторая компонента интеллекта, логосная, словесная (психологам более свойственно слово „вербальная“). Я говорю о „неповрежденном молчащем я “, конечно, не в абсолютном (богословском) смысле, а в человеческом — психологическом, психиатрическом. Мне представляется также это „молчаливое я “ неразвернутым и неразворачиваемым даже внутри самой личности, живущим за порогом ее произвольного сознания, как бы „сокрытым я “. Это некоторое глубокое „бытие в себе“ человека».
В здоровом, гармонично развивающемся ребенке нет такого разрыва между внутренним и внешним. Содержание психической жизни и ее форма адекватны друг другу. Но «внутренне молчаливое я » все равно существует, и, видимо, именно в его глубинах хранятся некие базовые, ключевые символические образы, общие для всего человечества. Образы, которые активируются, когда ребенок получает соответствующие внешние впечатления, и, всплывая на поверхность, облегчают «складывание фрагментов в целостную картинку», формирование представлений ребенка об окружающем его мире и о жизни вообще. В современной западной (а теперь и отечественной, пошедшей по западным стопам) психологии, рассуждая об этом, обычно оперируют понятиями «архетипов», «архетипических образов», «коллективного бессознательного». В последние десятилетия часто можно услышать и о генетической памяти, «генетической программе», как бы «заложенной» в младенца и во многом определяющей его реакции.
Но по сути эти объяснения мало что дают. Тут скорее просто констатация факта: дескать, есть нечто «эдакое», не позволяющее говорить о младенце как о «чистой доске». Но откуда оно взялось и что собой конкретно представляет — непонятно. Зато христианский взгляд на проблему позволяет многое прояснить. (Хотя, конечно, все равно сотворение человека и наделение его разумом, которым не обладает больше ни одно живое существо на Земле, — великая тайна Божия).
Пора подумать о душе
Исключая из рассуждений понятие о душе, мы обрекаем себя либо на механистичность, когда человек уподобляется сложно устроенному компьютеру, либо на какую-то мутную, запутанную мистику. Сам создатель учения об архетипах Карл Густав Юнг «определял „архетип“ различным способом в разное время, — пишет его последователь Мишель Вэнной Адаме. — Иногда он говорил об архетипах, как если бы они были образами. Иногда он более строго различал архетипы как бессознательные формы, лишенные какого-либо специфического содержания, и архетипические образы как сознательное содержание этих форм». Юнг и Бога, как известно, причислял к «архетипам».
А вот говоря о душе ребенка, которой он, по учению святых отцов, обладает с момента зачатия, и помня, что, по заповедям блаженства, только чистые сердцем Бога узрят (см.: Мф. 5: 8), мы можем подойти к пониманию сути вопроса. Младенческая чистота приближает ребенка к духовному миру, дает возможность видеть и чувствовать то, что от взрослых уже закрыто. Отец Александр Ельчанинов сравнивает душу ребенка с той, которая была у Адама до грехопадения. (Особенно, вероятно, это высказывание справедливо по отношению к детской душе, просвещенной святым крещением.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: