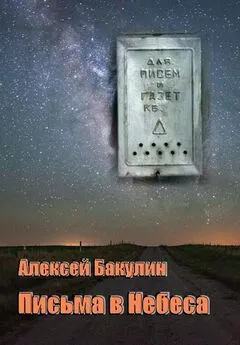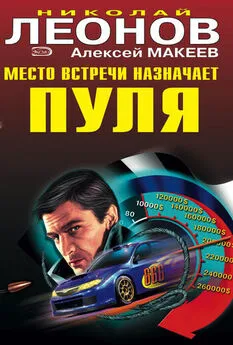Алексей Бакулин - Книга встреч
- Название:Книга встреч
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Бакулин - Книга встреч краткое содержание
Книга встреч - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не подумайте только, будто я хочу первую дорогу, барскую, гладкую, прямым ходом идущую из просвещённой Европы, объявить нерусской. Нет! Ни в коем случае! Дело в другом! Дело в Ершове.
Принято жалеть Петра Павловича: он-де, в ранней юности написав своего «Горбунка», больше уже ни строчки путной родить не смог, хотя прожил долгую жизнь и стихи сочинял в немалом количестве. Однако никто почему-то не жалеет Гомера за то, что он написал только «Илиаду» да «Одиссею»; или автора «Песни о Нибелунгах» за то, что он не сочинил ещё какой-нибудь песни.
А вас удивляет, что я ставлю нашего скромного Ершова, «детского писателя», «сказочника», в один ряд с Гомером? А вы не удивляйтесь.
…У немцев — Зигфрид. У англосаксов — Король Артур. У французов — граф Роланд. У испанцев — Сид Кампеадор… И так далее, и тому подобное. Кто из героев представит Россию? Илья Муромец? Без сомнения, Илья, а с ним рядом — Вольга, Добрыня, Микула Селянинович, но Илья — впереди всех. Однако исчерпывается ли Русь одними богатырями? Одной ратной силой?
А Иван-Царевич? — воплощённая изысканность русской культуры, её благородство и изящество; из того же ряда — Алёша Попович (не тот туповатый увалень, что в новом мультфильме, а настоящий, из былин, — ловкий, ладный, остроумный, насмешливый). Иван-Царевич (пусть переодевшийся во фрак или в офицерский мундир) стал главным героем русской дворянской литературы, главным героем книг Тургенева, Лермонтова, Льва Толстого…
Вот два героя: Илья Муромец — сила и мудрость, Иван-Царевич — благородство и красота… Должен быть и третий — куда же без него?.. И всякому ясно, что третий герой, третье воплощение русского духа — Иванушка-дурачок.
Сказки о дураках есть в любом народе. У немцев — Глупый Михель, у французов — Жанно Простак; и все они — только объекты насмешек, если дурак и побеждает, — это скорее каприз судьбы, повод посмеяться над нелепостью мира. Русский Иванушка-дурачок — это совсем другое: это сплав смирения и бодрости, смекалки и простоты, доброты и озорства; дурака в нём видят только «шибко умные», «умеющие жить», «серьёзные люди». Дурачок побеждает их с таким же блеском, как Илья побеждает Соловья-Разбойника и Иван-Царевич — Кащея Бессмертного.
Есть былинный цикл об Илье Муромце, есть чудесные сказки об Иване-Царевиче, но образ Иванушки, раздробленный, рассыпанный по десяткам коротеньких сказок-анекдотов, сумел по-настоящему воссоздать только Пётр Ершов: в полной мере, ярко, глубоко, от сердца.
Великий соблазн для всякого графомана — подражать Ершову! Как всё просто: гони строчку за строчкой, словно на балалайке тренькай, рифмуй «птица — девица, царь — государь»… Нет, не получается. С души воротит от нарочитости, фальши, нерусскости таких подражаний, — всех этих «Сказок о Федоте-стрельце» и др. Язык Ершова нельзя скопировать, с ним можно только родиться. Жаль, газетная полоса мала: цитировал бы и цитировал «Конька», словно яхонты перебирал! Да и не в языке только дело… Эта сказка — вся в стройном движении, вся озарена каким-то небывалым светом; в ней быт описан правдиво и точно, но в то же время — сказочно и нарядно; в ней чудеса ярки и радостны, но в то же время — просты и узнаваемы… В «Коньке» есть глубокая философия, стройное мировоззрение, прочная система нравственных, житейских и даже политических ценностей. Это, может быть, кому-то покажется перебором, но пока поверьте мне на слово, а попозже перечитайте внимательно, с карандашом в руке этот русский эпос и сами убедитесь: вот она, настоящая-то энциклопедия русской жизни. Здесь удальство и храбрость, смекалка и предприимчивость, красота и благородство освещены золотым светом смирения: смиренный, ни перед кем не заносящийся герой побеждает всех, одолевает все препятствия, и даже на вершину свою, на царство восходит после смиренного плача…
А что же сам автор, сам Ершов? Самое интересное, что он вовсе и не думал связывать свою жизнь с литературой: великий сказочный эпос родился у него как бы сам собой, естественно, без особых усилий — душа родила, почти без ведома своего хозяина. Ну, а затем — назвался груздем, полезай в кузов; один раз сотворив нечто, получив похвалу от самого Пушкина, решил продолжать в том же духе… Но в том-то и беда, что в том же духе не вышло. Он было и начал писать по-своему, по-народному, но публика, критика, наконец, цензура этого не поняла. Он написал народную балаганную комедию из жизни полководца Суворова, и петербургские артисты, как счастье, мечтали получить в ней роль, но тут цензор восстал: «Суворов — великий человек, его в комедию вставлять непозволительно!» Ершов попробовал писать «по-дворянски» — баллады, поэмы, оперные либретто… Не получилось. И Ершов, которого Пушкин назвал равным себе сказочником, Ершов, задушевный друг Владимира Даля и многих других замечательных русских словесников, заперся в своём Тобольске, утонул в служебных и семейных хлопотах — исчез, растворился… Не вышло у него на потребу века сменить балалайку на лиру, пересесть из телеги в карету, из Иванушки-дурачка стать Иваном-Царевичем. Герою «Конька» это удалось, автор «Конька» потерпел поражение. Меня это, честно говоря, не особенно расстраивает: царевичей в русской литературе и без Ершова предостаточно, а Иванушек (настоящих, а не ряженых) по пальцам можно пересчитать. Что сейчас рассказывать о тобольских невзгодах Ершова? Какое нам до них дело? Чем занимался Гомер, завершив «Одиссею»? Клянчил подаяние? Бродил из города в город? Это не важно. И не так важны житейские и литературные горести Ершова, если вспомнить, что этому человеку удалось ни много ни мало — открыть миру один из ликов России. Это дорогого стоит, и это не должно быть забыто, не оценено, пренебрежительно отодвинуто во «второй ряд». Пусть этот гений — смиренный гений, наша задача наградить его смирение достойным венцом.
Те, кто говорит, будто история не имеет сослагательно наклонения, не понимают самой сути истории. История без сослагательного наклонения теряет смысл, теряет дух, превращается механическую смену событий, во что-то автоматическое, безжизненное… Один деятель выскакивает за другим как фигурки на старинных башенных часах… Нет ничего более чуждого акту свободного Божьего творчества, «исторического художества Бога», чем такое представление. История жива именно тем, что всегда балансирует на узкой грани: «могло быть так, а могло быть совсем иначе»; событие живёт в историческом потоке, выбирая путь среди тысячи возможных, — причём, невыбранные пути остаются в памяти поколений и тоже входят в копилку народного опыта…
Что было бы, если бы Русь отбила Батыя? Что было бы, если бы Пётр Великий удержался на Чёрном море?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: