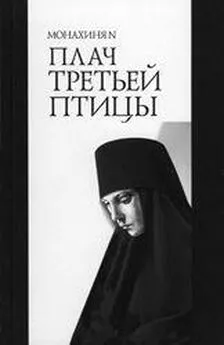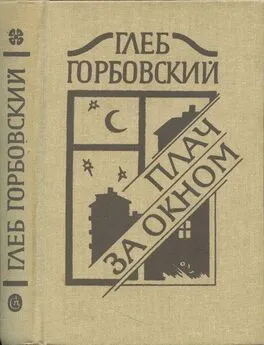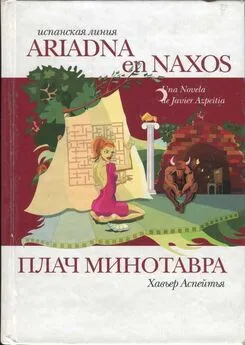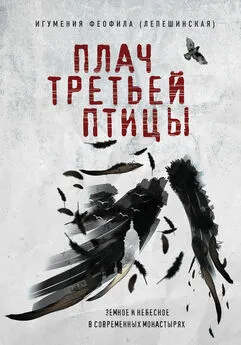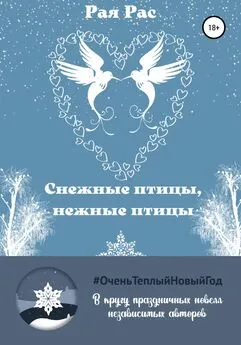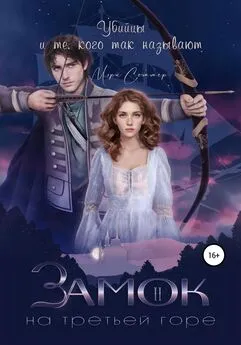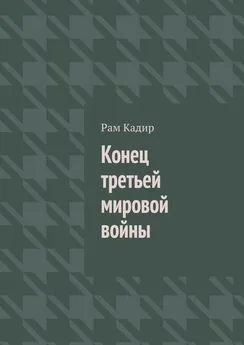Плач третьей птицы
- Название:Плач третьей птицы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Плач третьей птицы краткое содержание
Тон повествования не имеет ничего общего с благочестивой елейностью; автор не боится говорить о плевелах, которых немало в церковном быту, в том числе и в монастырях. Однако главное в книге – любовь к монашеству, во все времена живому, освященному великой целью: следовать за Христом.
Книга представляет интерес для самого широкого читателя, так как всякий, кого привлекает Евангелие, независимо от образа жизни, любит монашество.
Плач третьей птицы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как загоралась покойная старушка м. Е., когда удавалось кого-нибудь вызвать на диспут; ее собеседницей чаще всего бывала м. В., тоже старушка, едва грамотная, но ревностью ученой м. Е. не уступавшая, они с горячностью обсуждали, к примеру, была ли жена-грешница с алавастровым сосудом Магдалиною и себя ли имел в виду апостол Павел, когда писал о вознесшемся до седьмого неба.
Мать А. пришла в монастырь на седьмом десятке, ничего не зная о Православии, после чудесного видения, посетившего ее в сокрушительном горе, когда в одну неделю пришлось похоронить сына и мужа; она замучила всех вопросами, пока не открыла святителя Игнатия, а через него Евангелие, которое изучила насквозь, пользуясь толкованиями, и спешила, спешила восполнить ничтожество своей прошлой беспутной , по ее словам, жизни: «двадцать лет секретарем парторганизации состояла!».
Мать М. часы проводит в библиотеке, хотя читает с лупой, и в келье тоже то пишет, то просматривает многолетние тетрадки с выписками и цитатами; молится она, по совету своего кумира Феофана Затворника, часто и кратко, говорит, на длинные молитвы не хватает дыхания. Находясь рядом, среди знакомых Златоустовых молитв можно иногда расслышать не совсем обычную: Господи, сохрани мне разум! она утверждает, что наипаче восхваляемая святыми отцами добродетель рассудительности есть не что иное как умственная способность и надлежит весьма дорожить ею, ради возрастания в познании Бога, во всякой премудрости и разумении духовном [388]– потому что христианством насытиться нельзя.
А вот молодым, обойденным правильным воспитанием, с детства впитавшим в себя много греховного и очень мало божественного, трудно, при безотчетных чувствах и спящем интеллекте, понять цель своего бытия; если почва сердца не взрыхлена, не подготовлена к восприятию высоких понятий, мудрено разуметь слова Господни, а главное, извлекать из них пользу, применяя по назначению, к себе.
Не наученные мыслить, разучившиеся читать, они страшатся отплывать на глубину [389], ленятся снова и снова закидывать сети и годами бесплодно существуют в ветхозаветном круге правил и запретов: не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся [390]: нельзя в праздник стирать, нельзя надевать чужую одежду и доедать чужой кусок, чтоб не перенять страсти, но можно и даже нужно допить благодатные остатки чая из посуды любимого батюшки, к нормированным поклонам следует прибавить вчерашние и позавчерашние, не исполненные по болезни, а отложенный сегодня канон завтра придется вычитать дважды, в возмещение долга .
Вера, связанная лишь с психологической потребностью укрыться от хаоса безыдейного бытия, ущербна и бессильна; встречаясь с религией , она слепо упирается в букву закона и приспосабливается, искажаясь под давлением обстоятельств и возвращаясь к немощным и бедным вещественным началам [391]; имитационное существование рано или поздно обнаруживает себя, когда, например, м. Д., оставляющая обитель, сбрасывает иноческую форму и с ошеломительной позорной скоростью надевает форму горничной отеля.
Ибо христианство не религия в том смысле, в каком религиями называются иудаизм, буддизм или мусульманство, – не система запретов и предписаний, не мудрое учение, не моральный кодекс; христианство – новая жизнь в духе и истине [392], и начинается она с интереса и доверия к Личности Христа, не основателя, проповедника и учителя, а Бога, возлюбившего человека до смерти на Кресте [393]; от все более тесного общения с Ним возгорается восторженная вера и непреходящее изумление перед тайнами Откровения, неподвластными времени [394].
Если этого нет, внутренняя пустота, скудость, беспомощность до времени прикрываются православной терминологией: «благодатный храм», «благодатный батюшка», «благодатно пообщались»; «благословите яблочко (сухарик)»; «у меня на нее такая брань»; «пришел помысл» – прогуляться на речку, сбегать к м. Н. поболтать, съесть конфетку; благочестивые штампы и красивые слова [395]вменяются как праздные [396], если используются для изображения высоких чувств, слывущих христианскими, если за действительное выдается даже не желаемое, а то, чего вроде подобает желать. Так, кстати, и во всём: порывистость заменяет ревность, предательство маскируется под честность, равнодушие прикидывается внутренним миром, а каприз сходит за крестное страдание; и никогда, никогда не признаемся, что ничего не поймали [397].
Нынче многое подвергается профанации; к сожалению, не исключение и мир веры, утрачивающий серьезность и тайну; личный путь, тернистый и сокровенный, оказывается излишним: стоит ли долго и мучительно, терпя поражение за поражением, пробиваться к истине, куда проще победно предъявить мироточащую икону в доказательство вышнего к себе благоволения; зачем утомлять слабый мозг, погружаясь в непосильное чтение святых отцов, когда можно быстренько перелистать брошюрку-цитатник и козырять: Иоанн Златоуст учил… Григорий Богослов сказал…
Совсем не обязательно томиться в ожидании божественного ответа, изводясь в сомнениях и утруждая сердце, легче позвонить на радио «Радонеж» и дежурный батюшка не задумавшись выдаст бодрую отточенную формулировку по любому вопросу. Симптоматично, что до сих пор, несмотря на огромное книжное богатство, в церковной среде, даже в монастырях, имеющих солидные библиотеки, имеют хождение безграмотные революционные листовки, подписанные вымышленными именами непримиримых борцов за чистоту Православия: дикарская безграмотность увлекается всем хлестким, мятежным, упрощенным до голых прописей.
От бездумного употребления высоких глаголов восприятие замыливается и сознание перестает ощущать обоюдоострый смысл выражаемых ими понятий; Исаак Сирин призывает вновь и вновь доискиваться цели, которую преследуют обращенные к нам слова Священного Писания, наполняющего сердце силой, очищающего разум, стимулирующего стремление к совершенству; а уста нам заповедано отверзать лишь от избытка сердца [398]; слово подлинно, когда напиталось соками души и созрело, когда за ним опыт борьбы, сомнений и переживаний; иначе оно остается химерой, как выражался старец Оптинский Леонид, пустой скорлупкой, внутри которой вместо плода пресмыкается дух лукавства [399].
Вот, например, мать Л., надменно поджав губы, изрекает: «я всех заранее прощаю», и мороз идет по коже: прощающий всех прощает лишь себя. Мать К., подходя перед исповедью к игумении, торжественно, с рыданием произносит: «простите меня, великую грешницу!», но под епитрахилью проводит одну секунду, явно для проформы; если один обычай влечет тебя к Врачу, то не получишь здравия, предостерегал Ефрем Сирин. Конечно, даже словесное, рассудочное «прости Христа ради» с ответным «Бог простит» гасит вражду, пресекает развитие конфликта – но так далеко отстоит от настоящего прощения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: