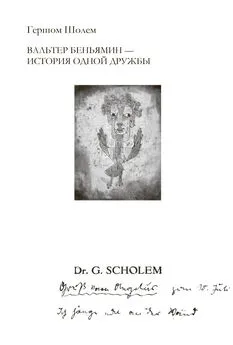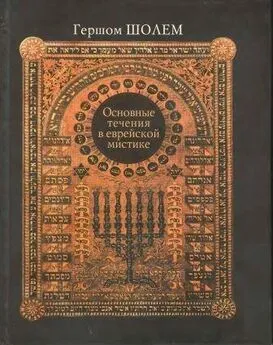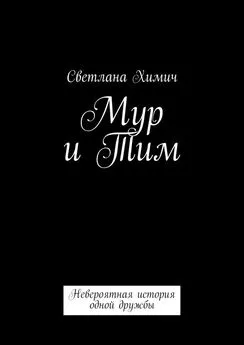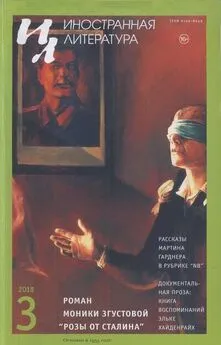Гершом Шолем - Вальтер Беньямин – история одной дружбы
- Название:Вальтер Беньямин – история одной дружбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-904099-08-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гершом Шолем - Вальтер Беньямин – история одной дружбы краткое содержание
Из предисловия Ивана Болдырева к русскому изданию В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Вальтер Беньямин – история одной дружбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В этой связи я хотел бы сказать, что Беньямин, по сути, был совсем не циничным человеком, что, пожалуй, зависело от его глубоко укоренённой мессианской веры. Конечно, к буржуазному обществу он относился с немалой долей цинизма, но даже это давалось ему с трудом. За пределами этой области элемент цинизма у него полностью отсутствовал. Там, где речь шла о таких важных вещах, как религия, философия и литература, в Беньямине не было и следа цинизма. Его анархизм не имел с цинизмом ничего общего, а «веления духа» были для него в годы нашего близкого общения понятием, полностью исключавшим что-либо подобное. И всё же приходилось иногда удивляться его искренним высказываниям, в которых цинизм сочетался с глубокой и серьёзной духовностью. Это я наблюдал у него на трёх примерах: на его восхищении флоберовским «Буваром и Пекюше», связанным скорее с конгениальным ему презрением к буржуазной лживости; на его восхищении Миноной и, возможно, Фердинандом Хардекопфом. В отношении Миноны я легко мог согласиться с ним, а вот для Хардекопфа у меня отсутствовало необходимое «чувствилище».
Когда между Вальтером и Дорой царил мир – вскоре после приезда, ожидая их в соседней комнате, я был свидетелем шумных сцен – в их отношениях проявлялась несравненная внимательность и они оставались неприкрыто нежны друг к другу даже в моём присутствии. В их тайном языке существовало много слов, которых я не понимал – ласкательные словечки и тому подобное. Особенно излюбленным было слово Ekul, которое, в противоположность слову Ekel 114, употреблялось в чрезвычайно положительном смысле. Так, Вальтер, по словам Доры, был «преласковый бука», а я летом 1918 года звался «благочестивый бука». Дора в то время была полногрудой Юноной, со страстной натурой, легко взрывалась, иногда доходя до приступов истерии, но могла быть и очень любезной и милой. Во многих разговорах с ними речь редко заходила об эротических или сексуальных вопросах. В те швейцарские годы это было тем заметнее, что Дора отнюдь не чуралась таких тем и заводила о них разговор, но Беньямина они как- то не интересовали. Но он много лет упорно – даже в разговорах с другими – отстаивал странный тезис, что несчастной любви не бывает, тезис, который решительно опровергался его собственной биографией.
В эти годы, между 1915-м и как минимум 1927-м, религиозная сфера имела для Беньямина, без всякого сомнения, центральное значение; в центре этой сферы располагалось понятие «учения», которое для него хотя и включало область философии, но перешагивало её границы. В своих ранних работах он то и дело возвращается к этому понятию, которое в еврейской Торе означает «наставление», наставление не только об истинном положении и пути человека в мире, но и о транскаузальной связи вещей и её заповеданности Богом. Это имело много общего с беньяминовским понятием традиции, приобретающим всё более мистический оттенок. Многие из наших разговоров – больше, чем прослеживается по его записям, – витали вокруг связей между двумя этими понятиями: религия, но не только теология – как, например, считала Ханна Арендт, имея в виду его последние годы – представляет собой некий высший порядок. (Слово «порядок», или «духовный порядок», часто употреблялось им в те годы. В изложении своих мыслей он часто прибегал к нему вместо «категории».) В разговорах тех лет он не стеснялся говорить о Боге без обиняков. Поскольку мы оба верили в Бога, мы никогда не спорили о его «бытии». Бог был для него реален – начиная от самых ранних статей по философии, в письмах времён расцвета «Молодёжного движения» и вплоть до заметок к первой его диссертации по философии языка. Мне знакомо одно ненапечатанное письмо об этом, письмо к Карле Зелигзон от июня 1914 года. Но даже в упомянутых записях Бог является недостижимым центром учения о символах, которое должно было отдалять его не только от всего предметного, но и от всего символического. Если в Швейцарии Беньямин говорил о философии как учении о порядках духовности, то его дефиниция, которую я тогда для себя записал, выходит и в область религиозного: «Философия есть абсолютный опыт, выведенный в систематико-символической связи как язык» и тем самым – часть «учения». То, что впоследствии он отошёл от непосредственного религиозного способа выражения, хотя теологическая сфера оставалась для него глубоко живой, нисколько этому не противоречит.
До того, как я приехал в Швейцарию, он полностью прочёл – наряду со Штифтером и Франсом – три толстых тома «Истории догм» Гарнака, которые надолго – отнюдь не к лучшему – определили его представление о христианской теологии и оказали столь же большое влияние на его решительное отвержение католицизма, как многие разговоры со мной – на его склонность к миру иудаизма, пусть она даже оставалась в области абстракции.
Спустя несколько дней после моего приезда супруги Беньямины взяли меня на состоявшийся в маленьком зале фортепьянный концерт Бузони, который исполнял Дебюсси. Это было «общественным» мероприятием, по бернским понятиям, и это был единственный раз, когда я видел Беньяминов на таком мероприятии; оба были весьма элегантно одеты и раздавали поклоны направо и налево. Отец Доры рекомендовал Беньямина своему близкому другу Самуэлю Зингеру, ординарному профессору средневерхненемецкого языка в Берне, и время от времени супругов Беньяминов приглашали в фортепьянный зал вместе с несколькими профессорами. Летний семестр только начался, и я – ещё до моего формального зачисления – начал вместе с Беньямином посещать некоторые лекции. Мы слушали «Введение в критический реализм» в исполнении Хербертца, и единственным содержанием этих лекций Беньямин назвал то, что деревянного железа не бывает. Этот курс лекций да ещё один, читавшийся Паулем Хеберлином, и лекции о романтизме Гарри Майнца, в которых, согласно Беньямину, «фальшь маскировалась китчем», были очень малолюдны. Но поскольку Беньямину для защиты диссертации были нужны три этих курса по философии, психологии и истории немецкой литературы и он должен был участвовать в семинарах, он просил меня хотя бы составлять ему компанию на лекциях. От скуки мы часто забавлялись, составляя списки знаменитых людей на какую-нибудь одну букву алфавита. Беньямин участвовал в семинаре Хеберлина по Фрейду; про фрейдовское учение о влечениях он написал тогда подробный реферат, но само учение ценил невысоко. Для этого семинара он, среди прочего, прочёл и «Мемуары нервнобольного» Шребе-ра 115, которые произвели на него гораздо более глубокое впечатление, чем фрейдовская статья о них 116. Беньямин побудил и меня прочесть книгу Шребера, чьи формулировки были очень выразительны и многозначительны. Из этой книги он позаимствовал для нашей игры выражение «улетучившиеся люди». У Шребера, который в разгар его паранойи полагал, будто мир разрушается враждебными ему «лучами», это было ответом на возражение, что, очевидно, врачи, пациенты и служащие сумасшедшего дома всё-таки существуют. На семинаре Хербертца мы читали «Метафизику» Аристотеля. Беньямин был неоспоримым фаворитом и заслужил – как он имел обыкновение говорить – «семинарские лавры, laurea communis minor » 117. Хербертц, который любил говорить тоном философского рыночного зазывалы и выкрикивать аристотелевское τό τι ήν είναι 118, словно глашатай, из будки чудес объявляющий выступление дамы без нижней половины тела, глубоко уважал Беньямина и уже относился к нему как к младшему коллеге. Его совершенно независтливое восхищение беньяминовским гением, который был полной противоположностью его собственному мелкобуржуазному мышлению, выказывало глубокое благородство его сути, которое он ещё не раз проявил, в том числе и в годы Второй мировой войны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: