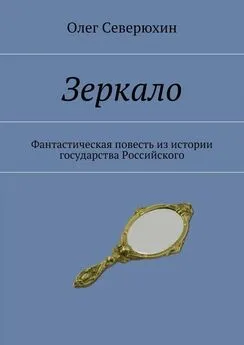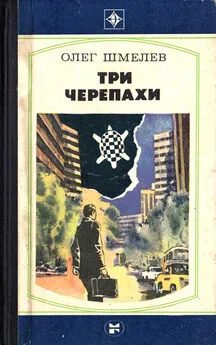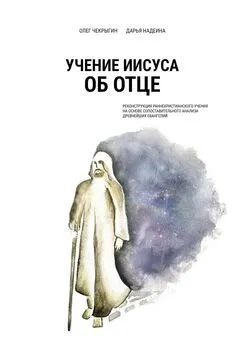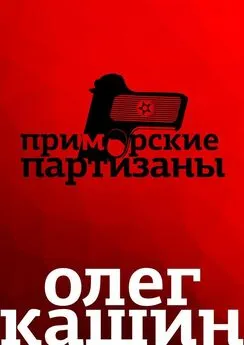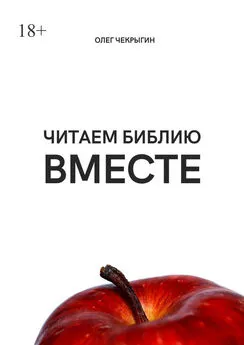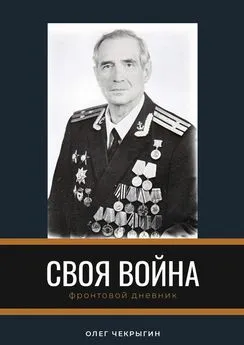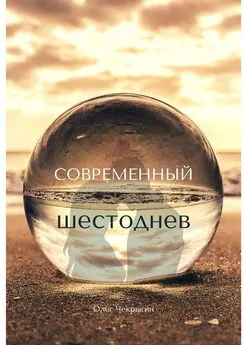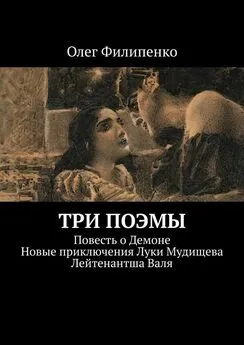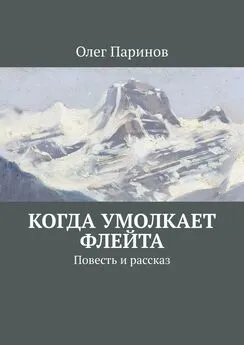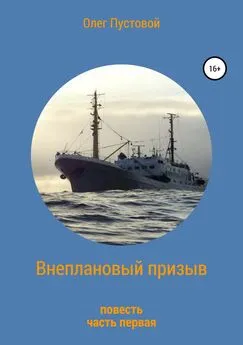Олег Чекрыгин - Миряне. Печальнейшая повесть
- Название:Миряне. Печальнейшая повесть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005376572
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Чекрыгин - Миряне. Печальнейшая повесть краткое содержание
Миряне. Печальнейшая повесть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Монахи
Монашество… Как много хочется – и должно – рассказать хорошего о мужчинах и женщинах, по разным причинам вступивших когда-то на путь иноческого христианского подвига. И как много плохого и горького придется сказать в адрес монашества в целом и о его типичных проявлениях в жизни мира, для которого монашество, как оно само о себе утверждает, «умерло и похоронилось» – поймешь ли, и сумеешь ли простить меня, друг читатель? Надеюсь на твое великодушие, и вновь прошу прощения за невольную боль, которую, поверь, всецело разделяю с тобою…
Помню одно из своих первых детских впечатлений, связанных с церковью: поездка с родителями в Загорск, в лавру Сергия. Ярким летним деньком, в воскресенье, с утра пораньше, мы выехали на машине из Дмитрова, где я гостил у бабушки, по объездной дороге минуя Москву в Загорск через Поленово. Посетив музей-усадьбу великого живописца, где мне, ребенку, под конец экскурсии стало немного скучно, где-то к полудню мы входили под надвратные своды Лавры. Я мало что знал о церкви, и никогда до этого не оказывался вблизи верующих, собравшихся на молитву. Расскажу оставшееся в моей памяти впечатление, не претендующее на достоверность – слишком много прошло лет, наслоивших на память новое знание. Итак.
Толпа. Народу множество, как на демонстрации, но люди не праздны, и не веселы. Общее настроение напряженного ожидания, как бы тревоги, и в то же время в суетном движении многих людей есть какая-то систематичность, деловитость, что ли. Народу очень много, толкаются всерьез, с умыслом, прокладывая себе дорогу, и при этом никто не извиняется. Кругом постоянно возникают короткие злые перепалки, быстро, правда, гаснущие без развития в скандал. Мне неуютно, я чувствую, что мы здесь чужие, и нас так и принимают за лишних здесь чужаков. Почему – непонятно. Человеческая масса сосредоточенно жужжит, как улей. Над ней то там, то здесь возвышаются, раскачиваясь, черные шапки цилиндром. И шелест: «Батюшка пошел, батюшка». «Батюшка, благословите!» – поворот, наклон, «руку целуй, руку», – и вновь неторопливое покачивание черных цилиндров в вышине, над почтительно расступающейся толпой. Благоговение. В почитании – нечто хорошо знакомое. Холопство. Постышев, подмечает Солженицын, так долго продержался около Сталина, пережив всех, потому что был – денщиком, холуем у барина. Это мы сделали наших епископов, священников и монахов такими, какие они есть сегодня: нашими господами и Князьями Церкви. Мы хотим быть господскими холопами, нам это нравится, и из нас ничто не смогло выбить рабский дух.
Меня охватывает злая веселость, растет протест беспричинной враждебности, которая атмосферой окружает туристов, подобных нам, растворенных в массе верующих людей, заполнивших монастырский двор вытекающими со службы в огромных храмах человеческими половодными ручьями и реками. Мама подводит меня к огромному арочному окну до самой земли, за которым в неохватном, сотканном из светотени пространстве, угадывается роспись стен, мозаика полов. «Что значит – трапезный храм? Здесь что, едят монахи? Как, сидя прямо на полу?». Молча, и потому особенно ужасно, стайка черных старух начинает колотить меня, царапать, драть волосы и одежду. И лишь когда отец, страшно ощерившись, с ревом отпихивает от нас, опрокидывая, всю свору, начинается гвалт. «Покажем вам, как Бога хулить! Святотатцы! Сами вы на полу сидите…». «Какие же вы верующие», – говорит отец уже спокойно, – «на ребенка накинулись лишь за то, что глупость сказал – так ведь потому и ребенок, что ума пока нет. А у вас-то почему нет ни ума, ни сердца? Да вы хуже фашистов, от которых я вас на фронте защищал». Вдали мелькает, приближаясь, милицейская форма. Отец, решительно рассекая толпу, идет к выходу, мы движемся за ним, понурясь. Я опасаюсь оглянуться по сторонам, смотрю под ноги. Солнышко затуманилось, день померк. Начинает накрапывать дождик, дворники возят грязь на ветровом стекле. Дорога домой тянется в молчании. Я засыпаю.
Тогда я впервые услышал в родительском разговоре слово «фанатики». Встречая его позже в книгах, я узнавал его по ужасу, который вспоминал, испытав при своей первой встрече с монастырем, монашеством, и «верой».
В «идеологии», если можно так выразиться, монашества имеется по крайней мере одно бросающееся в глаза, в том числе и несведущим, противоречие. Парадокс, так сказать. С одной стороны монашество всегда и везде: в своих книгах из поколения в поколение, в особенном учении, которое распространяя в среде верующих, «ученые монахи» выдают за божественную истину и учение Христа (в крайнем случае, за «откровение», тем или иным способом явившееся им от Бога), в поучении верующих «вживую», через непосредственное общение – повторяю, всегда и везде монашество оглашает главной христианской добродетелью и своим основным достижением – Смирение! При этом утверждается, что Любовь, заповеданная Христом, как таковая, для всех нас недостижима по причине божественности своего происхождения, и потому для грешного человечества должна быть заменена смирением – хватит, мол, с нас и этого. То есть, если я, допустим, терплю присутствие ненавидимого мной начальника, и не скандалю с ним, да еще и терплю свою ненависть к нему, не давая ей ходу – то и будет с меня. Это и есть любовь «по-монашески». К чему она приводит и во что выливается в самих монастырях, я при случае расскажу как-нибудь попозже, не за завтраком, чтобы не перебить кому-нибудь аппетит.
Так же, как «для нас грешных, недостижима Любовь», по неявно распространяемому в церковных кругах ученому мнению, Евангелие – единственный имеющийся бесспорный источник свидетельствования о Христе, Его жизни и учении – «неудобно» для чтения по причине своей «невыносимой светоносности», и должно быть заменено чтением Святых Отцов, или по крайней мере, написанными ими «толкованиями» на Новый Завет. Приводят в пример солнце, смотреть на которое невозможно иначе, чем через закопчённое стекло, и копоть на наше зрение желают навести ученые монахи.
Идея эта не нова. К сведению, если кто не узнал из курса истории в средней школе, «Столетняя» война в Европе велась, как ни дико это прозвучит, именно (и всего лишь) за право людей читать Евангелие в переводе с латыни на родной для них язык. А католическая церковь в свою очередь и переводчиков, и любознательных читателей объявляла еретиками и передав в руки инквизиции, после «добровольного покаяния» в застенке отправляла «раскаявшихся грешников» на костер – для очищения, разумеется, и исключительно по любви. И тем не менее, люди сто лет с оружием в руках сражались, отстаивая у клерикалов свое право самим узнать, что же в этой Книге написано? И победили. Так что давайте этим правом воспользуемся, чтобы убедиться: можем мы сами понять, что там написано для нас с вами на все времена, или все-таки нам не обойтись без «мутного стекла»? Во всяком случае, право выбора принадлежит каждому из нас, и не надо людей запугивать и зашугивать непонятными им страхами, «как бы чего с ними дурного не приключилось» от «несанкционированного» чтения. На весь этот осторожный, извилистый шантаж отвечаю за всех словами пророка Давида: «там испугались, где страха нет». Жив Господь, любящий нас, и Он как-нибудь Сам позаботится о беспечальности тех, кто желая познать Его, для этого открыл книгу Нового Завета. А толкования почитаем на досуге, по надобности выяснить непонятое самими.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: