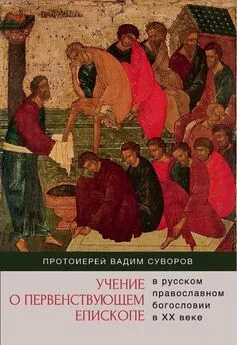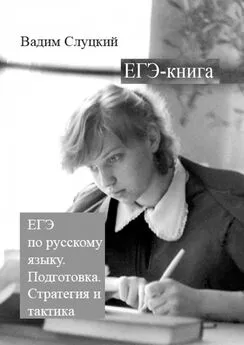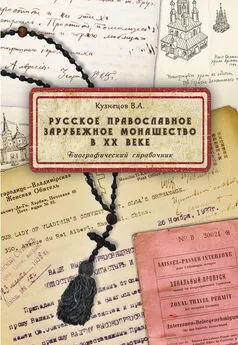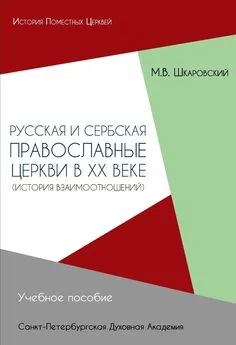Вадим Суворов - Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в ХХ веке
- Название:Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в ХХ веке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:М.
- ISBN:978-5-906960-96-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Суворов - Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в ХХ веке краткое содержание
Книга будет полезна всем, кто интересуется русским Православием, историей Церкви, вопросами канонического церковного устройства, церковного права, церковно-государственных и межправославных отношений, православно-католического богословского диалога.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в ХХ веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поскольку своим положением греческая иерархия была обязана туркам, греческое высшее духовенство, «вовсе не желало свержения турецкого ига» 73и больше всего боялось России и ее планов по освобождению Европы от турецкого владычества: «Пренебрежение к русским, как будто бы менее культурному народу, чем сами греки, еще не единственная причина, заставляющая главным образом высшее духовенство побаиваться русского завоевания Константинополя. Иерархия боится, что с изгнанием турок из Европы русскими эти последние заставят архиереев жить и действовать по церковным канонам, от чего эти архиереи совсем отвыкли» 74, – пишет Лебедев.
Полемизируя на страницах «Журнала Московской Патриархии» с греческим богословом Э. Фотиадисом, профессор С.В. Троицкий в середине XX века будет цитировать труды А.П. Лебедева и И.С. Бердникова, подкрепляя ими свои обвинения Константинопольской Патриархии в «восточном папизме», далеком от канонической правды и духа Христова 75.
Иную оценку «восточному папизму» и историческим путям Византийской Церкви давал выдающийся церковный историк профессор И.И. Соколов. В своих трудах он наделяет самыми возвышенными характеристиками «византинизм», не исключая турецкий период истории Константинопольской Церкви, и утверждает, что говорить о «папизме» византийских патриархов, как и о «цезарепапизме» византийских императоров, нет никаких научных оснований. Подобные явления, по мнению Соколова, являлись временными случайными уклонениями от юридической и канонической нормы, результатом злоупотреблений отдельных лиц. «В византийском законодательстве дуализм власти так решительно был установлен, а представители власти духовной настолько прониклись церковным учением о Божественном происхождении двоевластия в государстве, что, при свете этих бесспорных данных мысль о византийском папизме является тенденциозным недоразумением, – утверждает Соколов. – Нет, не о подчинении себе царской власти заботилась высшая церковная власть Византии, а о том, чтобы, оставаясь верной учению Христа, церковным догматам и канонам, сообщить дух Церкви государству и обществу, возможно больше приблизить государство к Церкви, преобразовать его по началу любви Христовой, создать Царство Божие на земле…» 76. В XX столетии профессор С.В. Троицкий, выступая в своих статьях против «папистических» претензий Константинополя, пренебрежительно назовет И. Соколова «известным грекофилом» 77.
Таким образом, в русских канонических и церковно-исторических трудах на рубеже XIX–XX веков мы видим крайне противоречивые оценки роли и положения Константинопольской Церкви и ее патриарха. Дискуссия по вопросу «восточного папизма» ярко показала, что в русской канонической и церковно-исторической литературе данного периода не существовало общепринятого представления о том, что именно следует относить к феномену «папства». С одной стороны, для русских канонистов и историков представлялось вполне очевидным, что текущее развитие канонического законодательства Вселенской Церкви не предусматривает единой административной власти первенствующего епископа на универсальном уровне. С другой стороны, исторические факты красноречиво свидетельствовали о существовании в Церкви особой признанной власти Римского, а позднее – и Константинопольского Первоиерархов. Это давало повод говорить о Римском епископе и Константинопольском патриархе как о западном и восточном «папах». После отпадения Римской Церкви, особенно в Османский период, Константинопольский патриарх приобрел исключительную власть и влияние на всем православном Востоке. Если одни русские авторы пытались обосновать феномен «восточного папства» с точки зрения церковных канонов, то другие признавали в нем лишь исторический факт, «отклонение» от канонической нормы, вызванное стечением различных исторических обстоятельств. Некоторые авторы вовсе отрицали существование «греко-восточного папизма», полагая, что феномен «папства» заключается исключительно в попытках церковной власти подчинить себе власть светскую. Характеризуя многообразие и противоречивость подходов в русской науке к «греческому вопросу» в этот период, А.П. Лебедев метко писал: «Существует пословица: “Пять греков – шесть мнений”. Если так говорят о греках, то у пяти русских относительно греков непременно семь мнений» 78. Примирить исторический подход с каноническим, освободиться от западных схем, дать объяснение феномена папства с точки зрения православной экклезиологии русскому богословию было еще не под силу.
Несколько особняком в этом отношении стоит исследование протоиерея Александра Алексеевича Лебедева (1833–1898), магистра МДА, священника русской церкви в Праге: «О главенстве папы. Разности православных и папистов в учении о Церкви» 79. Отмечая обилие в русской духовной литературе антилатинских сочинений, автор указывает на их неудовлетворительный, сугубо обличительный характер: «Говоря, как не должно мыслить Латинскую Церковь, они недостаточно говорят о том, как следует ее мыслить.» 80. Исходя из этого, автор задается целью вывести полемику на иной путь: заниматься не столько опровержением доказательств, на которых строиться католическая система, сколько разбором самой системы: «Говоря о развитии церковной власти, я указываю на те пути и законы, по которым оно должно было идти и совершаться; а затем указываю, в чем состояло развитие латинского главенства, до какого момента оно шло правильно и с какого уклонилось от истинного пути» 81.
Лебедев приходит в своем исследовании к интересному выводу о том, что единоличное начало в церковном устройстве не есть непременно неправославное, как и соборное начало не есть непременно православное. «Если бы православное христианство осталось в одном патриархатстве, или в каком-нибудь народе с одним духовным правителем во главе, было ли бы такое единоначалие неправославно? Без сомнения, нет. Патриарх или митрополит, сделавшись главой всего православного христианства и признаваемый в таком качестве всеми ему подчиненными пастырями и всеми народами, – через это не преобразился бы в папу, хотя, по нашему представлению, имел бы много искушений к этому» 82. С другой стороны, полагает Лебедев, и соборность не безусловно православна: не всякий собор, каким бы он ни был представительным и многочисленным, «православен потому только, что он есть собор епископов» 83.
Сравнивая православный и латинские катехизисы, а также современную ему латинскую литературу, Лебедев делает вывод о том, что одно из основных отличий в православном и католическом учении о Церкви составляет учение о папской непогрешимости. Если в католицизме свойством Церкви – непогрешимостью – обладает один папа, то Православие приписывает непогрешимость всему составу Церкви, «всем благочестивым людям – следовательно и мирянам, и духовным» 84. Вселенские же Соборы являются не столько источником, сколько «выразителями непогрешимого учительства» 85, которое принадлежит всему телу Церкви и не предполагает разделения Церкви на учащую и учащуюся.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: