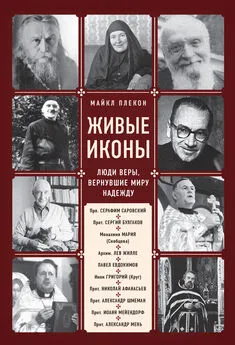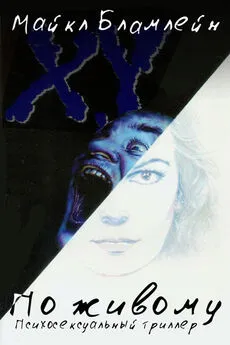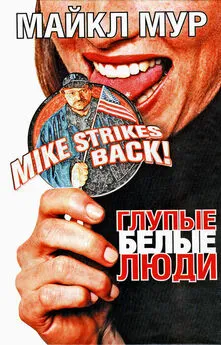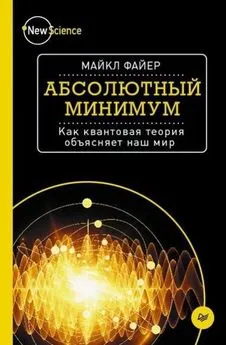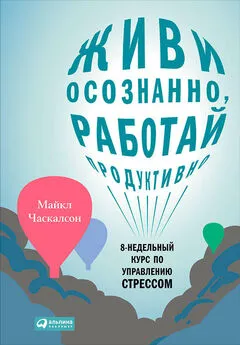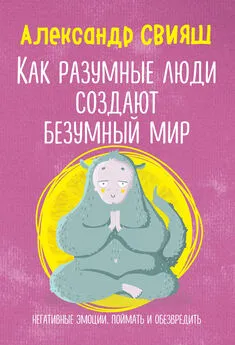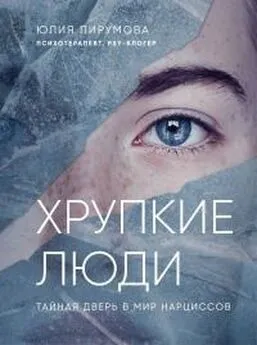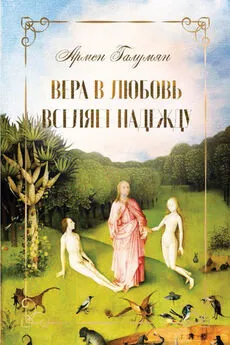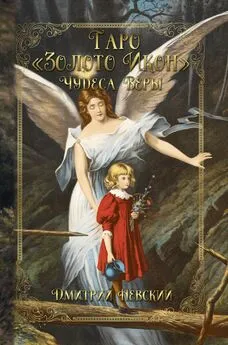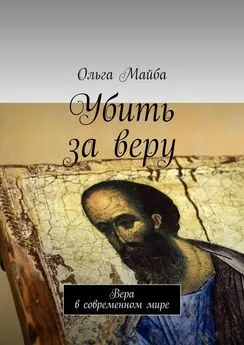Майкл Плекон - Живые иконы. Люди веры, вернувшие миру надежду
- Название:Живые иконы. Люди веры, вернувшие миру надежду
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-108344-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майкл Плекон - Живые иконы. Люди веры, вернувшие миру надежду краткое содержание
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Живые иконы. Люди веры, вернувшие миру надежду - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все они тонко, но глубоко влияли друг на друга. Можно привести немало прямых цитат, свидетельствующих о таком влиянии. В других случаях это общая направленность, дух, стиль, даже сам язык. Возьмем, к примеру, работу о. Николая Афанасьева «Трапеза Господня» (1952), где он беспощадно критикует евхаристическую практику, распространенную среди православных, и его же посмертно опубликованную «Церковь Духа Святого» (1975), посвященную формированию раннехристианской «евхаристической экклезиологии». Влияние афанасьевской мысли, сформированной на основе совокупного исследования канонического права, церковной истории, Нового Завета и литургии, совершенно очевидно в посмертно опубликованном труде о. Александра Шмемана «Евхаристия: Таинство Царства» (1988), равно как и в других его работах. Замечания о. Александра на открытой защите своей докторской диссертации «Введение в литургическое богословие» в Свято-Сергиевском институте в 1961 году, которую принимали у него отцы Афанасьев и Мейендорф, вторят тревоге его учителя по поводу того, во что превращается литургия, и это из чисто богословских соображений, не говоря уже о культурных! Хотя о. Иоанн Мейендорф нередко высказывал научные возражения на некоторые детали афанасьевского евхаристического богословия, евхаристическая природа Церкви и церковный характер Евхаристии наложили глубокий отпечаток на его мысль. Евхаристия была для него неизменным критерием здоровья Церкви, как это видно в его редакторских статьях в официальном органе Православной Церкви в Америке «Православная Церковь», в его исследованиях и лекциях.
Отец Лев Жилле служил настоятелем первого франкоязычного православного прихода в Париже, освященного во имя Преображения Господня и св. Женевьевы. Членами этой общины, среди прочих, были Евдокимовы, Лосские, братья Ковалевские, светский богослов Элизабет Бер-Сижель и ее муж Николай. Первая литургия этого прихода была отслужена в офисе Русского студенческого христианского движения на ул. Монпарнас, 10, а затем в лютеранской церкви Святой Троицы на нынешнем бульваре Винсент-Ориоль. Луи Буйе, впоследствии католический священник Оратория и выдающийся литургический богослов, также посещал тамошние богослужения.
При взгляде на историю русской эмиграции все эти переплетения дружеских и профессиональных связей не удивительны, если учесть, что почти вся эмигрантская молодежь активно участвовала в Русском студенческом христианском движении, где ее окормляли, в числе прочих священников, такие крупные духовные руководители, учителя и духовники, как отцы Сергий Булгаков и Лев Жилле. Из РСХД и Свято-Сергиевского института протянулись нити контакта и сотрудничества с Содружеством св. Албания и преп. Сергия, англикано-православным братством, первым экуменическим сообществом такого рода. Они участвовали также в становлении того объединения, которое станет позже Всемирным Советом Церквей, и в экуменической группе, более ориентированной на гуманитарную помощь, CIMADE (Comité inter-Mouvements pour l’accueil des évacués), где Павел Евдокимов проработал более десяти лет. Эти связи продолжались многие годы. Иконы о. Григория (Круга) украшают часовню санатория матери Марии на Нуази-ле-Гран; студент о. Николая Афанасьева, о. Александр Шмеман, становится ректором Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке и ведущей фигурой в международном литургическом движении, а о. Иоанн Мейендорф, еще один выпускник Свято-Сергиевского института, сменяет Шмемана на посту ректора Свято-Владимирской семинарии и выступает главным связующим звеном между Православием и академическим сообществом и церквями США. Соединенные совсем не семейными или родственными узами, во многом очень разные, нередко страстно спорившие друг с другом, эти люди тесно связаны не только общностью языка, культуры и эмиграции, но также и событиями мирового экономического кризиса и Второй мировой войны. И еще более глубоко связаны они общением в вере, таинствах и церковной жизни.
Люди, с которыми мы здесь встретимся, хоть они и не канонизированы, суть «живые иконы». Я не вкладываю в эту метафору никакого сентиментального или кощунственного смысла. Каждый христианин создан по образу ( eikon ) и подобию Божию для жизни во Христе. Присутствие Святого Духа понимается, благодаря восточным отцам Церкви, как процесс теозиса , обо́жения, в котором человек становится всё более и более подобным образу, по которому сотворен и крещен. В особенности святых монахов называют преподобными , то есть «весьма похожими», «очень подобными» Богу, причем это лишь одно из многих определений или описаний святости, того, что значит быть святым.
Глава 2. Святой Серафим Саровский: образ святости в наше время
В сочинениях многих русских эмигрантов мы встретим выражение горячей любви к русскому иеромонаху Серафиму Саровскому, канонизированному в 1903 году при активном участии царя Николая II и его супруги Александры, присутствовавших на торжестве канонизации. Личность преподобного Серафима – ключ к более открытому и творческому пониманию евангельского пути, жизни в общении с Богом, святости. Это тем более удивительно, что жил он в один из худших периодов церковной жизни России, во времена, когда живое предание покрылось коростой категорий и формул, многие из которых и по сей день преследуют восточное христианство. При Петре I патриаршество было упразднено, Церковь превратилась в государственное учреждение, управляемое назначаемым обер-прокурором, мирянином, который председательствовал на синоде русских епископов. В течение всего периода правления Петра и Екатерины II монашеская жизнь, уже и так находившаяся в духовном упадке, целенаправленно подавлялась. Было закрыто более трети всех существовавших монастырей и установлен строгий контроль за открытием новых.
И в эти темные времена вспыхнули искры обновления. Преподобный Паисий Величковский (1722–1794), студент Киево-Могилянской академии, становится афонским монахом и начинает славянский перевод сборника «Добротолюбие» (то есть «красотолюбие», «любовь к красоте»). Этот сборник святоотеческих текстов, изданный преп. Никодимом Святогорцем, стал классикой восточно-христианской духовности и впоследствии был переведен на русский язык. Странствующий христианин знаменитых «Откровенных рассказов странника духовному своему отцу» в первой главе книги покупает потрепанный экземпляр «Добротолюбия», носит в своей сумке вместе с Библией, что составляет всю его библиотеку и самое ценное достояние, и изучает по нему «сердечную молитву». В тот же период жил свт. Тихон Задонский (1724–1782), замечательный епископ, впоследствии отшельник. Широко начитанный в классической духовной литературе, в том числе и в трудах западных авторов, он вел обширную переписку с ищущими духовного совета, переводил Псалтирь и Новый Завет на русский и своими сочинениями внес большой вклад в обновление литургической жизни и молитвы, особенно после своей смерти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: