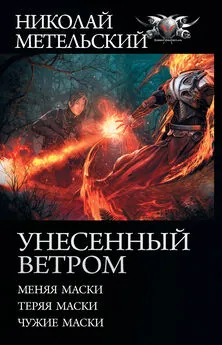Елена Андреева - Девадаси: Мир, унесенный ветром. Храмовые танцовщицы в культуре Южной Индии
- Название:Девадаси: Мир, унесенный ветром. Храмовые танцовщицы в культуре Южной Индии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907059-28-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Андреева - Девадаси: Мир, унесенный ветром. Храмовые танцовщицы в культуре Южной Индии краткое содержание
Девадаси: Мир, унесенный ветром. Храмовые танцовщицы в культуре Южной Индии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Термин « tēvaraṭiyāḷ » состоит из слова «девар» ( tēvar ) – «Бог, Господин», и «адияль» ( aṭiyāḷ ) – «служанка, рабыня, бхакта». Слово « tēvar » может означать как «Бог», так и «царь», и происходит от санскритского слова «дева» ( deva ) с тем же значением. В древнетамильской литературе эпохи Санги встречаются и другие тамильские слова, связанные с санскритским «дева», например, «дейвам» ( teyvam ) или «деву» ( tēvu ). Только после VII века слова «деван» ( tēvaṉ ) и «деви» ( tēvi ), которые употреблялись по отношению к отдельным богам и богиням, стали широко использоваться в тамили. Они, как и термин « tēvaraṭiyāḷ », были широко распространены как в шиваизме, так и в вишнуизме. Вторая часть термина « tēvaraṭiyāḷ » происходит от тамильского слова «ади» ( aṭi ) – «стопа» (Orr, 2000: 52). Следовательно, слова «адиян» ( aṭiyāṉ — для мужчины) и «адияль» ( aṭiyāḷ — для женщины) обозначают того, кто находится у чьих-либо стоп – как преданный слуга или как верный раб. Примером может служить поэзия Маниккавасагара, где имеются сотни упоминаний «стоп божества», к которым адиян прикасается, служит им, украшает их, поклоняется и ищет прибежища у этих стоп. Еще один термин, происходящий от тамильского « aṭi » и несущий оттенок почтительности, – это «адигальмар» ( aṭikaḷmār ). Сначала он употреблялся по отношению к бродячим аскетам и бхактам, путешествующим пешком, то есть «стопами», а потом превратился в титул или часть имени уважаемого человека (Orr, 2000: 216). Таким образом, слова, составляющие термин « tēvaraṭiyāḷ », имеют отношение к сфере религиозной литературы тамильского бхакти VI–IX веков, а сам термин подчеркивает смирение и покорность по отношению к объекту поклонения.
Концепция бхакта как человека, находящегося у стоп любимого божества, характерна для тамильской религиозной культуры. Она развивалась в поэзии вишнуитских и шиваитских бхактов, чьи произведения оказали глубокое влияние на богослужение и теологию индуизма. Поэты состязались друг с другом в преданности своему божеству, и каждый из них старался доказать, что именно он является самым смиренным, самым покорным и самым преданным. Несмотря на уничижительную окраску, в контексте тамильского бхакти термины « aṭiyāṉ » или « aṭiyāḷ » являлись почетными, привилегированными и уважительными. Показательно, что в чольских надписях эти термины прилагаются не столько к слугам и рабам, сколько к верующим, к тому же нередко по отношению к людям с высоким ритуальным статусом, которые имеют право получать пищу из храма (Orr, 2000: 53). Во время Чолов еще больше усилилось религиозное содержание унаследованного от раннего бхакти слова « aṭiyāḷ », которое стало употребляться вместе со словом « tēvar ».
Термин « tēvaraṭiyāḷ » встречается уже в древнетамильской поэме «Шилаппадикарам», относящейся к дочольскому времени, но именно в период правления Чолов он превратился в устойчивый специфический термин для обозначения храмовых женщин. Он был почетным и подразумевал высокий социальный и ритуальный статус женщины (Orr, 2000: 50). Именно с термином « tēvaraṭiyāḷ » связан рост упоминаний о храмовых женщинах в надписях чольского периода (Orr, 2000: 55). Такие перемены могли быть связаны с тем обстоятельством, что с распространением бхакти статус людей, выполняющих для храма тяжелые и непрестижные виды работ, начал переосмысливаться и приобретать возвышенный оттенок, а сама работа на храм стала пониматься как религиозное служение. Шиваитские и вишнуитские бхакты – альвары и наянары, использовали образ слуги при описании своих отношений с божеством. Они называли себя и других верующих словом «тондар» ( toṇṭar – слуги), или «атчейвом» ( āṭceyvōm – букв. «мы будем служить»), и рассматривали низкий труд, труд прислуги, как путь к Богу – к своему Господину (Orr, 2000: 216).
В произведениях тамильских бхактов неоднократно встречается слово «пани» ( paṇi ), означающее «работа», «труд», и имеющее религиозную окраску. В них речь идет об идеальном верующем, который выполняет для любимого божества «панисей» ( paṇicey ) – определенную работу, или службу. Подобные идеи мы можем встретить, например, у Маниккавасагара в «Тирувасакам», у Сундарара в собрании «Деварам», у Намальвара в «Тируваюмоли», у Перияльвара в «Тирумоли» (Orr, 2000: 241). Также слово « paṇicey » (буквально означает «работать») мы встречаем в выражении «панисейя пендугаль» ( paṇiceyya peṇṭukaḷ ), которое обозначает женщин, выполняющих в храме определенный вид работы в качестве религиозного служения. Л. Орр сообщает, что термин « paṇiceyya peṇṭukaḷ », означающий «прислугу» или «обслуживающий персонал», нередко использовался для обозначения храмовых женщин в эпиграфических надписях чольского периода, и при этом давалась самая общая информация касательно функций, которые выполняли эти женщины в храме (Orr, 2000: 123).
Можно встретить мнение, что термин « tēvaraṭiyāḷ » является калькой санскритского «девадаси» ( devadāsī ). Однако следует учесть, что слово «девадаси» не имело широкого распространения вплоть до XX века, в то время как « tēvaraṭiyāḷ » являлось общеупотребительным уже в период правления Чолов. К тому же в тамильской литературе « aṭiyāḷ » означает религиозную, верующую женщину, а в санскритской литературе и в североиндийских надписях « dāsī », как правило, означает рабыню, прислугу или проститутку. То есть слова « aṭiyāḷ » и «dāsī» находятся на разных смысловых уровнях. Кроме того, как было показано выше, в случае с терминами «dāsa» и «dāsī» существует явный семантический разрыв гендерных связей, хотя таковой отсутствует в случае с тамильскими «aṭiyāṉ» и «aṭiyāḷ». Если буддийская, пураническая и эпическая литература изображает североиндийских правителей в окружении всевозможных рабынь, служанок и куртизанок, то мы такого не встретим в тамильской литературе пурам или в литературе чольского периода. Таким образом, разница между тамильской и североиндийской культурной средой закрепила различные смыслы и использование этих двух терминов – «aṭiyāḷ» и «dāsī» (Orr, 2000: 55). Поэтому А. Шринивасан считает, что именно термин «devadāsī» является вариантом тамильского «tēvaraṭiyāḷ», а не наоборот (Srinivasan, 1988: 175), с чем не все специалисты согласны.
Предшественником термина «tēvaraṭiyāḷ», который стал широкораспространенным в позднечольский период, был термин «деванар магаль» ( tēvaṉār makaḷ ) или «девар магаль» ( tēvar makaḷ ) – «дочь Бога» (Orr, 2000: 58). Наиболее часто этот термин встречается в раннечольских надписях и характерен для центральных регионов чольских земель (дистрикты Танджавур и Тиручираппалли) и Северного Аркота. Существовал и мужской вариант данного термина – «деванар маган» ( tēvaṉār makaṉ )., т. е. «сын Бога», который встречается только в раннечольских надписях. При этом необходимо иметь в виду, что в период Чолов термины «девар» ( tēvar ), «деванар» ( tēvaṉār ), «удейяр» ( uṭaiyār ) или «альвар» ( āl̲vār ) в значении «господин» или «владыка» могли употребляться как для обозначения божества, так и для обозначения правителя. Так же как и приставка «тиру» ( tiru ) в значении «священный» или «великий», которая могла использоваться для обозначения правителя, храма, речи, пищи и т. д. Поэтому в некоторых случаях термин « tēvaṉār makaḷ » мог пониматься как «дочь Бога», так и «дочь правителя» (Orr, 2000: 58). Но в тех случаях, когда термин «devaṉār» подразумевал именно «Владыку храма» (храм обозначался словом «kōyil» или «taḷi»), под « tēvaṉār makaḷ » имелась в виду действительно «дочь Бога» (Orr, 2000: 219).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
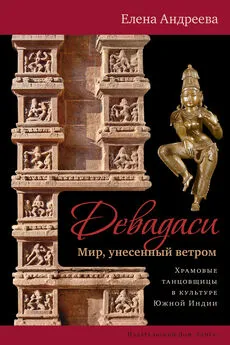

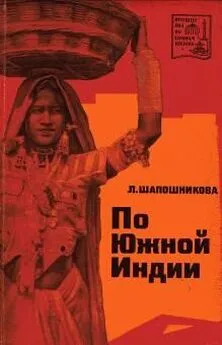
![Николай Метельский - Сборник Унесенный ветром [9 книг]](/books/1065540/nikolaj-metelskij-sbornik-unesennyj-vetrom-9-k.webp)
![Николай Метельский - Унесенный ветром. Книга седьмая - Осколки маски [не завершено]](/books/1080722/nikolaj-metelskij-unesennyj-vetrom-kniga-sedmaya-oskolki-maski-ne-zaversheno.webp)
![Николай Метельский - Унесенный ветром: Меняя маски. Теряя маски. Чужие маски [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082797/nikolaj-metelskij-unesennyj-vetrom-menyaya-maski.webp)
![Николай Метельский - Унесенный ветром. Книга пятая [СИ]](/books/1102694/nikolaj-metelskij-unesennyj-vetrom-kniga-pyataya.webp)