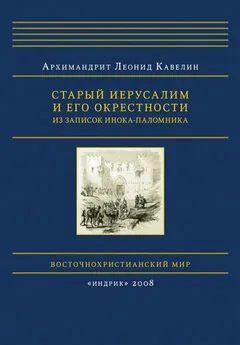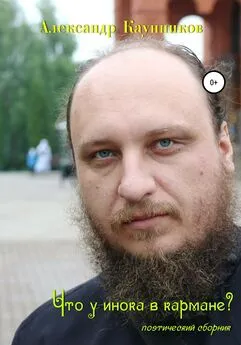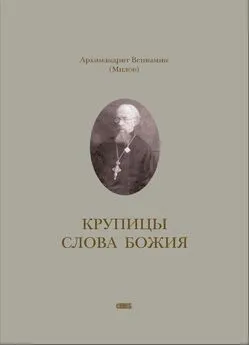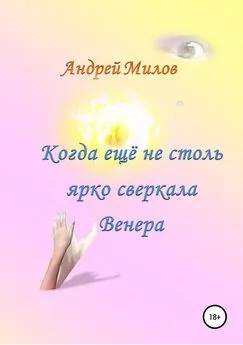Вениамин Милов - Дневник инока
- Название:Дневник инока
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Милов - Дневник инока краткое содержание
Епископ ВЕНИАМИН (Милов)
Дневник инока
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
© Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999
Источник:
Православие и современность. Электронная библиотека - http://lib.eparhia-saratov.ru/
Дневник инока - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Лавре с особой силой раскрылся проповеднический дар батюшки. Он произносил, как правило, по две проповеди: одну во время ранней обедни, которую служил сам в нижнем храме Успенского собора, а потом совершенно другую — за поздней литургией в Трапезном храме. Проповеди были яркими, образными, сильными, прямо связанными с нуждами послевоенного состояния народа. Многие приходили на них с тетрадками, чтобы записать хотя бы самое главное. Помню, в одной проповеди о силе молитвы он рассказал, как во время всеуничтожающей атаки немцев в одной избе старичок со старушкой усердно молились. Шквал войны прошел через их село, истребив все, но избу старичков немцы не заметили, и она продолжала стоять, как если бы атаки на село и не было. Память сохранила и другую проповедь, показавшуюся тогда неожиданной, — о необходимости доверять государству. Смысл ее вскоре раскрылся. Проповедь была произнесена непосредственно перед девальвацией денег, от которой не пострадали только те, кто спокойно хранил свои средства в сберегательных банках…
В 1948 году, когда Московские духовная академия и семинария находились уже в стенах Лавры, отец Вениамин был назначен их инспектором. Зная, что время его коротко, он требовал, чтобы я чаще приезжал в Загорск — каждое воскресенье. И чувствовалась потребность во взаимной встрече не только моя, но и его.
Помню последнюю с батюшкой Пасхальную заутреню в Лавре — в 1949 году. Приехав вечером, я пробрался в уже переполненный Трапезный храм и вижу, что служит отец Вениамин. Из алтаря меня позвали, и когда я туда вошел, дали нести крест во время крестного хода. Я взял, впереди несли фонарь, а сзади за мной шел батюшка. Это несение креста было символичное — я вскоре женился [172] Брак у автора воспоминаний был исключительно счастливым. — Ред.
. Батюшка же был вновь арестован и сослан в Казахстан.
Местом последней ссылки отца Вениамина стал казахский овцеводческий колхоз в районе Джамбула. Дорога туда лежала через Алма–Ату, и батюшка хотел встретиться с владыкой Гурием, тогда епископом Алма–Атинским, с которым они вместе открывали и поднимали Троице–Сергиеву Лавру. Но епископ Гурий, по понятным причинам, от этой встречи уклонился.
В Казахстан к батюшке ездила Настя, близкая его духовная дочь [173] Настя — Акимова Анастасия Михайловна (монахиня Анастасия; 28 дек. 1904 – 28 апр. 1977 г.). Род. в Тверской обл., Турыгинский р–н, дер. Артемово. С 7 лет — сирота. В Москву приехала 11–ти лет. Жила у знакомых на положении работницы — помогала по хозяйству, в булочной, смотрела за детьми. С 1927 по 1959 г. работала на трикотажной фабрике"Красный Восток". Монашество приняла в 1972 г. в Курске, постриг совершал игумен Герасим. Владыку Вениамина знала еще до его пострига (видимо, по Данилову монастырю). Настя была человеком деятельной любви, всегда благодушной, всем довольной, ко всем радушной, очень легкой в общении, жертвенной. Воспитывала детей сестры, помогала им материально и духовно. Владыке Вениамину была предана беззаветно. — П. П.
. Прилетев в Джамбул на самолете, она в течение двух дней на двугорбом верблюде по голой бескрайней степи добиралась до места пребывания батюшки. Войдя в юрту, где среди казахов сидел отец Вениамин, со слезами упала ему в ноги.
Батюшка квартировал у сосланной в те края немки с Поволжья. Казахи довольно мирно к нему относились, даже, рассказывала Настя, подарили однажды миску, полную вареных бараньих хвостов, — знак расположения, с которым, правда, батюшка не знал, что делать. Но он очень страдал физически от сырости — и климата, и помещения, в котором должен был жить."Душевно живу, слава Богу, а телесно переживаю много недомоганий. Уже и зубов нет, а флюсы не перестают регулярно мучить. Частенько болит почему‑то горло, — думаю, от сырости помещения. И ноги дают себя знать"."Зимой никогда не раздеваюсь на ночь. Вечером натопишь углем печку, а к утру все тепло куда‑то исчезает. С земляного пола тянет какой‑то сыростью, хотя я застилаю его половиками. Оттого вечно простужаюсь"."От сырости и дождя за последнее время у меня возобновился ишиас. Трудно повернуться, трудно встать с постели и делать что‑либо необходимое в личном житейском обиходе. К тому же температура, а в связи с этим бессонница…. Характерно… что я крайне оберегал спину. Посланную когда‑то Вами желтую шерстяную рубашку не спускал с плеч, спал в одежде, завертывался в два одеяла сверху. И, несмотря на предосторожности, неуловимая волна сырости все‑таки пробила броню одежды и воспалила нерв".
Находясь в ссылке, батюшка изучил казахский язык и составил казахско–русский словарь, как писал, на двадцать тысяч слов. Этот труд, если бы его издали, мог бы стать поворотным в его судьбе. Но он почувствовал, что этого поворота допускать не нужно, и по–прежнему принял свою судьбу как Промысл Божий. Родителям моим он тогда написал:"…в душе явилось колебание: продвигать ли работу, когда, кроме земной критики, я стою пред посмертной ответственностью. Потому решил обождать. Для самолюбия словарный труд кое‑что может дать, а для души — минус".
Не могу не сказать здесь особо, отвлекаясь от последовательности воспоминаний, об исключительной требовательности отца Вениамина к самому себе — вплоть до того, что, став монахом в достаточно молодом возрасте, он больше не встречался с тогда еще живой горячо любимой матерью (кстати, как и отец Аристоклий). Батюшка был очень строг внутренне, всегда ответственно собран. Он знал настоящую цену духовной жизни. И это знание, естественно, влияло на его отношение к окружающему миру. Так, в иконописи он не терпел"нестеровщину", как сам выражался, — болезненную экзальтацию в изображении святых. Святость в понимании батюшки — всегда скромна, но здорова, а не болезненно–мечтательна. Вот почему он был и против"игры в монашество", подделки, даже совсем невинной, например, мальчиковой обуви у девушек, считавших благочестивым в одежде подражать монашкам. Можно было услышать в таких случаях:"Не рядись!". Помню, после долгой вынужденной разлуки, увидев меня отрастившим бороду, сказал:"Побрейся".
К монашеству он тоже не склонял. Показательно, что ни одна из окружавших его духовных дочерей при жизни отца Вениамина монахиней не стала. И лишь после его смерти некоторые из них, Анастасия и Клавдия, приняли тайный постриг. Но, обладая даром прозорливости и очень строгим, внимательным отношением к предощущаемому, батюшка, например, ревностно охранял Федора Воробьева (будущего архимандрита Фео–дорита [174] Архимандрит Феодорит (Федор Иванович Воробьев; 1899–1973) был насельником Лавры 17 лет (с 1956 г.), в том числе 11 лет — благочинным. До сих пор многие прихожане помнят его замечательные проповеди. — Ред.
) от стремления к женитьбе. Помню рассказ Евдокии Адриановны об их последней случайной встрече у отца Вениамина во Владимире. Федор нравился Евдокии, а она — ему. Батюшка, конечно, это знал и ощутимо показывал неудовольствие такой встречей, всячески стараясь — и очень символично — не допустить их совместного ухода от него. Воробьев жил и работал тогда в Петушках по Нижегородской дороге. Выпроваживая Евдокию, отец Вениамин посадил Федора на свое место за столом, начал как‑то особенно угощать… Уже на вокзале, сидя в вагоне, Евдокия Адриановна увидела бегущего, опаздывающего на поезд Федора и поняла, что больше с ним не встретится. Не сразу, спустя годы, Федор Иванович Воробьев принял монашество, стал насельником Троице–Сергиевой Лавры, архимандритом. Евдокия же Адриановна так и осталась просто Христовой невестой. Очень легкая, всегда лучезарная по приходе из церкви, сильная горячей, искренней верой, она пламенела сердцем к Богу.
Интервал:
Закладка: