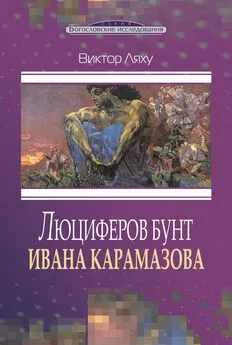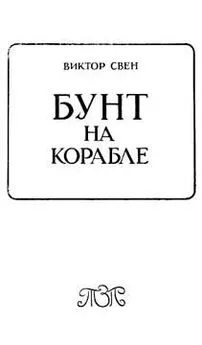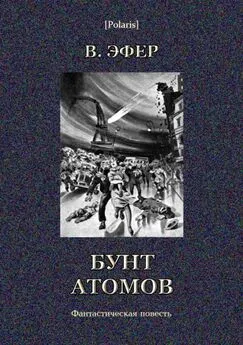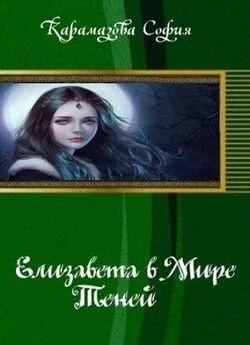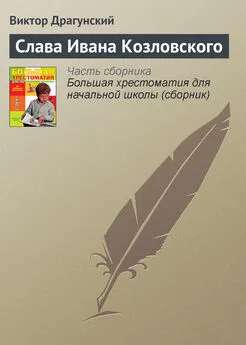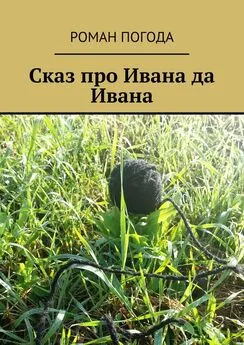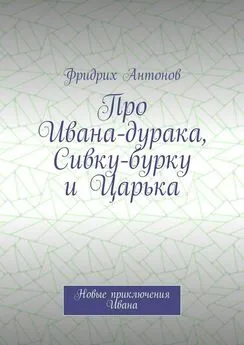Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова
- Название:Люциферов бунт Ивана Карамазова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ББИ»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89647-258-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова краткое содержание
Люциферов бунт Ивана Карамазова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В представленной логике мы решили посвятить свое исследование одному из ключевых произведений всемирно известного Пятикнижия Ф. М. Достоевского, «величайшему роману всех времен и народов» [3] Янси Ф. Нагорная проповедь: проповедь-укор . М.: Триада, 1999. С. 30.
– «Братьям Карамазовым», и в первую очередь, конечно же, некоторым центральным героям этой грандиозной фрески. Итоговый роман писателя в самых существенных своих чертах обнаруживает так много общего с сакральным текстом Библии (в постановке коренных религиозно-философ ских и нравственных проблем; в принципиальной ориентации на библейскую парадигму бытия как на структурный архетип; в особенностях, наконец, даже поэтики [4] Подробнее о влиянии библейской поэтики на поэтику Достоевского см.: Ляху В. С. О влиянии поэтики Библии на поэтику Ф. М. Достоевского в Вопросы литературы . 1998. Июль-август. С. 138–143.
), что это позволяет иным исследователям, в частности, например, писателю Ш. Андерсону, решительно утверждать: по своему масштабу и проблематике «„Карамазовы“ – это Библия» [5] Андерсон Ш. Так приходит ваша минута (Письмо к Харту Крейну от 4 марта 1921 г.) в Вопросы литературы . 1965. № 2. С. 176.
. Соответственно, ни один герой романа не может быть оценен по достоинству иначе как в библейском масштабе и ключе.
Внимание к религиозно-философской природе романа Достоевского в общих измерениях, конечно же, не ново. Но такое внимание до недавнего времени имело место именно и только в самом общем виде. Более того, и в самом таком общем подходе «религиозное» присутствовало лишь номинально. Вследствие этого декларация о религиозном потенциале и природе романа реализовывалась, можно сказать, вяло, непоследовательно, поверхностно, приблизительно. Ныне, в новых уже обстоятельствах, возможно, а стало быть, и необходимо воздать должное библейским составляющим в «Братьях Карамазовых». На роман целесообразно посмотреть и как на своего рода закономерно «случившуюся» [6] Здесь мы хотим подчеркнуть, что речь не о рассудочном, изначально предписанном себе задании, а об органичном «восхождении» романа на высоты библейских резонансов.
реминисценцию библейских сюжетов.
Практическая реализация этого нашего намерения обязывает нас к поиску новых технологий исследования, в частности, кроме всего прочего, к уяснению аллюзийной природы романа.
Многочисленные авторы, сосредоточившиеся на постижении христианского потенциала творчества Достоевского, демонстрируют различные подходы к этой проблематике и открывают всё новые и новые аспекты в пользу более объективного, целостного освещения ее в науке. Однако мы не считаем необходимым пока входить во все мыслимые подробности работ последних лет. Для нас в порядке предварения важно обозначить и квалифицировать общее идеологическое русло, в котором развивается современная достоевистика, и, главным образом, выяснить основные принципы, категории и критерии, которыми руководствуются исследователи для решения тех или иных определенных задач.
Начиная с 90-х годов ХХ века в самых разных исследованиях были предприняты плодотворные попытки охарактеризовать «христианскую образность» Достоевского [7] См.: Пустовойт П. Г. Христианская образность в романах Ф. М. Достоевского в Русская литература XIX века и христианство / Под общ. ред. В. И. Кулешова. М.: Изд-во МГУ, 1997. С. 82–91; Захаров В. Н. О христианском значении основной идеи творчества Достоевского в Достоевский и мировая культура: Альманах. СПб., 1994. № 2. С. 5–14; Трофимов Е. Христианская онтологичность эстетики Ф. М. Достоевского в Достоевский и мировая культура : Альманах. СПб., 1997. № 8. С. 7–31;
, общерелигиозный и культурологический контекст его творчества [8] См.: Власкин Ф. П. Народная религиозная культура в творчестве Ф. М. Достоевского в Христианство и русская литература . СПб.: Наука, 1996. Сб. 2. С. 220–290; Голова С. В. Историко-мировоззренческие системы: культура, цивилизация и язычество в художественном мире Ф. М. Достоевского в Русская литература ХIХ века и христианство . М., 1997. С. 68–74.
, символику религиозного календаря в произведениях автора «Карамазовых» [9] См.: Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского в Новые аспекты в изучении Достоевского : Сб. науч. тр. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского унта, 1994. С. 37–50; Степанян Е. «Иоанно-предтеченская тема» в «Братьях Карамазовых» в Достоевский и мировая культура : Альманах. М., 1994. № 3. С. 72–76.
, библейские и евангельские измерения творчества Ф. М. Достоевского [10] См.: Амелин Г., Пильщиков И. Новый Завет в «Преступлении и наказании» в Логос . 1992. № 3. С. 269–279; Тарасов Ф. К вопросу о евангельских основаниях «Братьев Карамазовых» в Достоевский и мировая культура : Альманах. 1994. № 3. С. 62–72; Кириллова И. Отметки Достоевского на тексте Евангелия от Иоанна в Достоевский в конце ХХ века . М., 1996. С. 48–60; Тихомиров Б. Н. Достоевский цитирует Евангелие (Заметки текстолога) в Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1996. Вып. 13. С. 189–194; Дудкин В. В. Достоевский и Евангелие от Иоанна в Евангельский текст в русской литературе ХVIII – ХХ веков . Сб. науч. тр. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1998. С. 337–348.
и многие другие подробности его художественной практики.
При всей очевидной значительности тех накоплений, на которые мы указали (пока по необходимости суммарно), поле деятельности для дальнейших изысканий остается достаточно широким. Это, на наш взгляд, особенно справедливо в применении к интересующему нас аспекту исследования (мы говорим о библейских аллюзиях в романе).
В этом конкретном случае нужно быть готовым к встрече с чрезвычайной пестротой мнений и оценок, ибо, по верному замечанию Ф. Тарасова, «осмысление „евангельского текста“ в художественных произведениях Ф. М. Достоевского протекает в столь разных системах отсчета, что порою их можно рассматривать как полярные, противостоящие друг другу» [11] Тарасов Ф. «Евангельский текст» в художественных произведениях Ф. М. Достоевского : Дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1998. С. 33.
.
С другой стороны, наблюдается и некоторое удручающее единообразие. В целом ряде интерпретаций, предложенных самыми разными авторами в работах последних лет, мы усматриваем один общий, как нам кажется, недостаток: исследователи нередко совсем недифференцированно, чересчур обобщенно употребляют такие понятия, как «религиозный», «христианский», «православный», «церковный», «евангельский», и при использовании их не всегда внятно обосновывают свои терминологические предпочтения.
На наш взгляд, однозначно определять автора «Братьев Карамазовых» как проповедника и православного писателя, возможно, не вполне корректно, а в некоторых случаях даже и рискованно [12] В частности, Н. Е. Егорова, будучи православной по своим убеждениям, заявляет, что «нельзя присвоить» Достоевскому не только «звание» христианского (здесь мы категорически не можем согласиться с автором. – В. Л.), но даже и православного писателя: «Абсурд в духе ХХ века называть Достоевского „православным писателем“ <���…> Как раньше, в советские времена, на великого писателя ставили клеймо реакционера, так сейчас некоторые хотят видеть его чуть ли не учителем Церкви. Как одно мнение (это уже очевидно) к Достоевскому вообще отношения не имеет, так и другое – упрощает писателя в интересах нахлынувшего „всеобщего православия“» (Егорова Н. Е. Камень преткновения в Начало . СПб., 1999. № 7. С. 71).
. То, о чем мы сказали, стало досадной приметой времени, которая побудила И. Волгина откликнуться, и притом принципиально: «Если раньше христианский дух Достоевского стушевывался и выносился за скобки, то сейчас обнаруживается другая крайность.
Интервал:
Закладка: