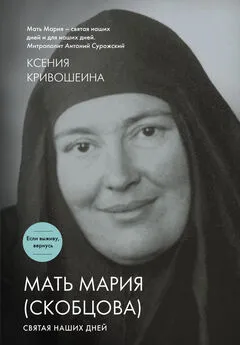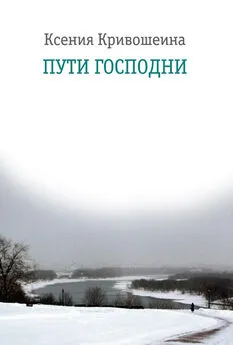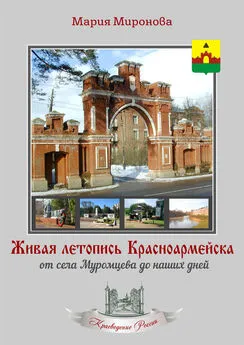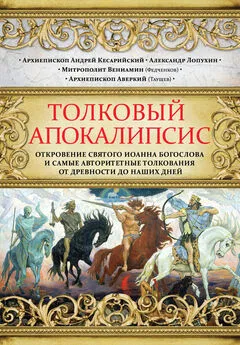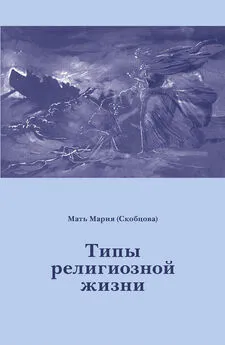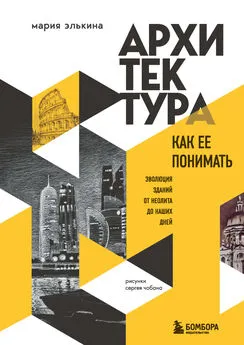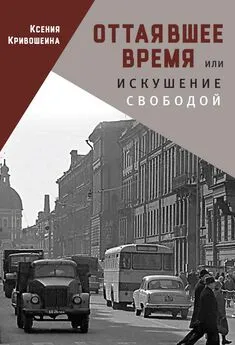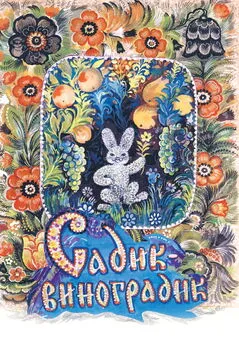Ксения Кривошеина - Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней
- Название:Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-69950-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ксения Кривошеина - Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней краткое содержание
Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Посетители «башни» с полным основанием рассматривали свои собрания как составную часть Серебряного века русской культуры, которую позднее назовут русским ренессансом. Этот рассвет отмечен появлением новых пластических форм в живописи, поэзии, театре; возникают течения иногда с неожиданными названиями: акмеизм, лучизм, футуризм, поздний символизм, дадаизм… Поиски и эксперименты начала XX века оставили нам в наследство имена русского авангарда мировой известности. Несомненно, что революционный настрой, бунтарство и брожение в сердцах и умах интеллигенции, поиск этого неведомого «нового героя», которого пыталась найти вся русская интеллигенция, целиком отражается в образах, формах и словах эпохи модернизма. «Башня» была одним из его центров. Здесь шли жаркие дискуссии, обсуждения, чтение стихов, а порой и представления спектаклей, чаще всего поставленных по законам абсурда. Каждый из присутствовавших обязан был высказаться; чем заумней был ответ или вопрос, тем больше ценился интеллект автора. Вечера переходили в ночь, утро, день… В качестве примера такой гениально абсурдной зауми Елизавета вспоминала разбор символического значения отдельных действующих лиц романа Достоевского «Бесы»: «Ставрогин – “князь мира сего” – такое определение его с ясностью вытекает из слов Хромоножки, – сталкивается на пути своем с землей. Земная поверхность, доступная человеку, не углубленная мистическим понятием земли, выявлена в образе Лизаветы Николаевны, недаром она в зеленом, символизирующим землю, платье описана в сцене в Скворешниках; там земля изображена в круге вечности, – комната, в которой, происходит разговор между Лизой и Ставрогиным, – комната круглая, круг – символ вечности. Хромоножка – это недра земли, недоступные человеку, князю мира сего, от этого она изображена безумной, фиктивной женой Ставрогина, от этого она в высшей мудрости своей одна проникла в сущность его, – сущность князя мира сего» [28] Кузьмина-Караваева Е. Ю. ( Юрий Данилов ). Последние римляне. 1924.
.
Посещая лекции Вяч. Иванова в 1910 году, на Бестужевских курсах, где он читал историю древнегреческой литературы, Лиза не могла вообразить, что этот строгий профессор – один из идейных вдохновителей Серебряного века. Пройдет несколько лет, и основные темы поэзии Иванова, его религиозного «мифа» – смерть, возрождение, отчаяние и следующая за ним надежда, воскресение, прославление жертвенного страдания – станут для Елизаветы (м. Марии) некой путеводной звездой в поисках собственного «я». В своих поэмах «Юрали» и «Мельмот-скиталец» она, безусловно, следует за Ивановым, который отвергает «парнасский» принцип искусства для искусства и переходит к искусству религиозному, реалистическому (в противовес идеалистическому) символизму. Путь, на который она ступила в эти годы, будет длинным, творчество – это только начало, философские поиски приведут к богословским осмыслениям… А пока она пытается разобраться в себе самой. От богемы отторгает ее и утопический взгляд, и полный отрыв от реальности ее новых друзей, как она сама пишет, «нелепый ритм жизни». Уже тогда непосредственной реакцией ее было стремление и переход от слов к делу – к самоотдаче. И все же, несмотря ни на что, десятые годы оказались очень плодотворными для Лизы! Выходят из печати ее первые книги «Скифские черепки», «Юрали», «Руфь». Это первые поэтические пробы, в которых она на ощупь, робко, но уже пытается выразить свой взгляд на религиозно-христианскую мысль.
На «башне» кипели нешуточные страсти. В битве за истинное понимание и развитие русской идеи сталкивались разные мнения и философские направления. Это место стало поистине одним из идейных центров русского символизма, творческой лабораторией поэтов; в своих литературных «средах» Вяч. Иванов видел прообраз «соборных» общин. За годы существования «башни» здесь побывало множество разных людей. А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, Л. Андреев, М. Волошин… Однако далеко не все задерживались здесь, в результате каждый выбирал свой путь. Самый существенный разрыв в обществе единомышленников (со старшими символистами) произошел в 1907 году после того как Иванов поддержал теорию «мистического анархизма» Георгия Чулкова, но с Брюсовым (зачинателем русского символизма) он сохранил дружбу вплоть до смерти.
Пожалуй, больше всего спорщиков «сред» занимал больной вопрос о судьбе и о значении русской интеллигенции. Тут страсти достигали высшей точки кипения. Наиболее горячие обсуждения вызвала статья Д. Мережковского «Религия и революция» (1908), в которой он писал: «…поймет ли русская интеллигенция, что лишь в грядущем христианстве заключена сила, способная победить мещанство и хамство грядущее? Если поймет, то будет первым исповедником и мучеником нового мира».
Возрождение, духовный подъем нации некоторые философы и писатели «башни» видели лишь на пути христианства: «…со Христом – к свободе. Христос освободит мир». Интеллигенция при этом должна стать не только человеческим разумом, но разумом Богочеловеческим, Логосом. Оппонентом выступал Г. В. Плеханов, считая подобные высказывания «псевдофилософской болтовней», а мировоззрение – «евангелием от декаданса». Неоднократно возвращались в спорах к высказываниям Мережковского о «славянофильском национализме и зоологическом патриотизме», а также о разочарованности А. В. Карташева, который много раз говорил о том, что надежды на воспитание и просвещение в РФО обернулись утопией и что «открывается, в сущности, религиозно-философская говорильня», причем пояснял – «политическая говорильня». На самом деле «петербуржцы начинают тяготиться мирным “побулькиванием” богоискательской мысли».
По словам Городецкого, также частенько бывавшего на «башне», в «средах» Иванова было много «будоражащего мысль, захватывающего и волнующего», но в основном споры и разговоры посетителей были освещены лучами «волшебного фонаря мистики»; «запах тления воспринимался как божественный фимиам». Характерно, что на первых порах Блок «бережно отстранил» Городецкого от посещения «чердачных чертогов» Иванова, где все было «замкнуто в узком мистико-эротическом, интеллигентски самодовольном кругу».
В своей статье «Последние римляне» (1923) одной из первых в эмиграции Елизавета описывает атмосферу предреволюционного Петербурга: «Новичком, поистине варваром, пришлось мне бывать на “башне” у Вячеслава Иванова. Там собирались люди, в полной мере владевшие ключами от сокровищницы современной культуры».
Эти собрания, по ее словам, отличало «ночное бдение до зари, какая-то пряность и утонченность всех речей». Все чаще она вспоминала советы Блока: «Бегите от нас умирающих пока не поздно, оставьте последних римлян, найдите выход в природе, труде, соприкосновении с народом».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: