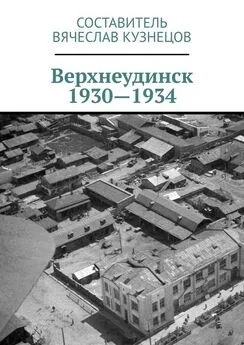Андрей Кострюков - Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции
- Название:Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7429-0262-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Кострюков - Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции краткое содержание
Монография рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся историей Русской Церкви.
Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Здесь секретарь ВЦУ приблизился к ключевому моменту доклада – к заявлению о том, что указ выполнять нельзя. Решимость стоять на своем приводит Махароблидзе и к резкому выпаду против послания митрополита Агафангела от 18 июня 1922 г. и, в частности, против его слов о необходимости нести «в духе любви и мира свои гражданские обязанности» [273] Акты Святейшего Патриарха Тихона. С. 220.
, хотя это послание по самому своему духу вполне может быть отнесено лишь к пастве, оставшейся в России. Махароблидзе постепенно увлекается и встает уже на позицию судебной инстанции по отношению к Патриарху Тихону. Задним числом он начинает отвергать возможность выполнения и предыдущего распоряжения Патриарха, от 25 сентября 1919 г. (по старому стилю), как в принципе неприемлемого для защитников России от большевизма.
«Я, – заявил Махароблидзе, – дерзнул подойти к страшному для меня – мирянина вопросу о соотношении к Святейшему Патриарху. А потому не буду развивать дальше эту мысль. Обращу лишь внимание на то, что ссылки Святейшего Патриарха в предложении на свою грамоту-послание от 25 сентября 1919 г., которой якобы противоречит политическая деятельность Высшего Церковного Управления заграницей и, кстати сказать, на которую уже не ссылается Священный Синод и Церковный Совет, очевидно не без причин, – неосновательна. Грамота эта, естественная для территории советской власти, где последняя уже водворилась и владычествует, где всякое сопротивление ей и борьба против нее и бесполезна, и вредна для Церкви, совершенно не применима для другой территории. Мы – не подданные большевиков. Если бы ее применить, то мы все православные должны были бы, по зову своего Верховного Архипастыря, еще в 1919 г. сложить оружие, признать над собою антихристову власть и отдать ей себя на истязание» [274] ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 4. Л. 51.
.
Махароблидзе отметил, что грамоту 1919 г. не исполняли и в России, чему пример – сонмы замученных на Родине священнослужителей и мирян. Но если та грамота и была приемлемой, даже за границей, ибо в ней было какое-то оправдание антибольшевистского движения, то указ № 348 (349) принять невозможно, ведь в нем в принципе осуждается борьба с большевиками, да и не только борьба, но и любое высказывание против них.
Кроме того, патриаршую грамоту Высшее Церковное Управление на Юге России лишь приняло к сведению, заявив, что распоряжение Патриарха относится только к территории, занятой большевиками, и для антибольшевистского движения неприменимо [275] Там же.
. Та грамота, по убеждению Махароблидзе, так же как и указ № 348 (349), была вынужденной: «У Временного Высшего Церковного Управления на юго-востоке России в Новочеркасске имелись точные сведения, что грамота Святейшего Патриарха от 25 сентября 1919 г. выманена у Святейшего ценою спасения 4000 священников-заложников» [276] Там же. Л. 52.
.
Так как же выйти из создавшейся ситуации? Махароблидзе предложил три выхода:
Первый – упразднить заграничное ВЦУ, образованное Карловацким Собором, и оставить дособорное ВЦУ, признанное Московским и Сербским Патриархами. При этом начать работу по созыву нового Церковного Собора.
Второй – сохранить ВЦУ, но объявить его временным. При этом, опять же, заняться подготовкой Церковного Собора.
Однако такие пути для Махароблидзе неприемлемы, так как первое решение было бы несправедливым по отношению к Карловацкому Собору. Второе решение затруднительно из-за того, что созыв Собора сопряжен с большими трудностями технического характера.
Поэтому для Махароблидзе наиболее приемлем третий выход – отказ от выполнения указа. Вследствие того, что: 1) указ требует проверки подлинности и разъяснений от Патриарха, 2) Зарубежная Церковь не может существовать без Высшего Церковного Управления, 3) Высшая Церковная власть в России дезорганизована, а Патриарх арестован – Высшее Церковное Управление «не может считать себя вправе сложить с себя полномочия впредь до установления в России законного церковного управления и возвращения к управлению Церковью Святейшего Патриарха, которому и ответит Высшее Русское Церковное Управление заграницей за свои, вынужденные пользой церковного дела, действия».
Важны для понимания идеологии Русской Зарубежной Церкви и следующие слова докладчика: «Ввиду чрезвычайной важности вопроса и слишком резкой разницы в психологии Высшей Всероссийской Церковной власти и Русской Заграничной Церкви по вопросу о борьбе с большевиками с церковной точки зрения и ввиду также, быть может, необходимости оставить за собой свободу мнения и действий в этом вопросе и целесообразности оградить себя от тяжких последствий в данном случае и освободить от ответственности за Заграничную Церковь Святейшего Патриарха, Высшее Церковное Управление, приняв третье решение, для подтверждения и укрепления своего авторитета, все же должно созвать Собор месяца через 3–4, с представителями от всех заграничных епархий и церквей. Это особенно важно теперь, когда законные органы Православной Русской Церкви в России прекратили свое существование, а так называемое «Высшее Церковное Управление» проводит в жизнь начала явно неканонические, неправославные. Быть может, Высшему Русскому Церковному Управлению заграницей придется иметь значение Всероссийского Высшего Православного Церковного Управления. Быть может, ему суждено будет быть единственным хранителем для России священных канонов и традиций Российской Православной Церкви» [277] ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 4. Л. 52–53.
.
Итак, Махароблидзе выступил против выполнения указа на основании того, что Высшая Церковная власть в России находится в разорении, а Патриарх арестован. Эти доводы понятны. Однако дальше Секретарь ВЦУ поставил вопрос, ставший ключевым в спорах между приверженцами Архиерейского Синода и сторонниками Московской Патриархии. Это вопрос о том, что выше – мирно сосуществовать с безбожной властью или стоять за ее свержение, добровольно идти в рабство безбожникам или, находясь вне их досягаемости, сохранять свою свободу. Для Секретаря ВЦУ предпочтительнее второй путь. Махароблидзе вполне допускает, что ради следования по этому пути можно пойти на разделение с Церковной властью в Москве.
Махароблидзе осознавал, что Церковь в России и Церковь за рубежом находятся в разных условиях. В отличие от Маркова, за девять месяцев до того, на Карловацком Соборе, утверждавшего, что в России народ только и думает о монархии, Махароблидзе трезво оценивал обстановку и прекрасно понимал, что монархические идеи популярностью на родине не пользуются. Для Махароблидзе ясно и то, что Церковь в России стремится мирно сосуществовать с большевиками. Это для Секретаря Зарубежного ВЦУ еще не повод для разделения. И все же он видит выход именно в нем. Разделение, по мнению Махароблидзе, необходимо для того, чтобы сохранить за собой свободу. При этом, докладчик считал путь Зарубежья, то есть путь непримиримой борьбы с большевиками, более правильным, чем путь компромисса, избранный Московской Патриархией. Секретарь ВЦУ прямо говорит, что пока Патриарх твердо стоял на платформе борьбы с большевизмом, Церковь в России была сильна. Стоило сойти с этого пути и предпочесть политику лавирования, как Русская Церковь оказалась разгромленной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

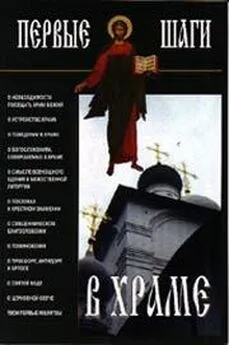





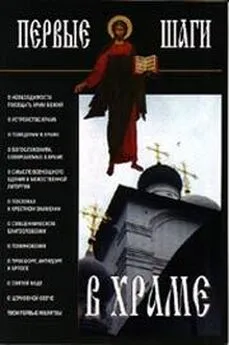
![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/1088261/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya.webp)