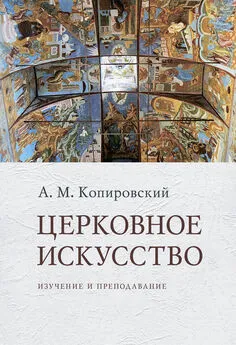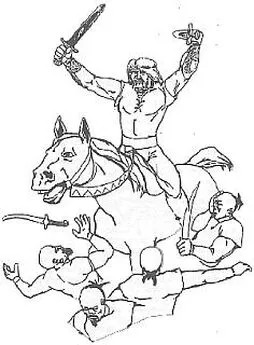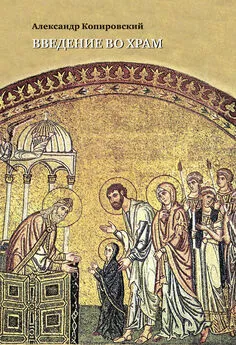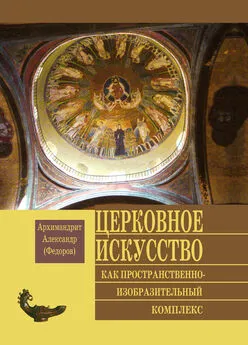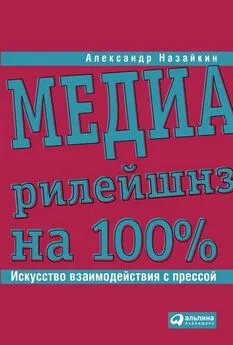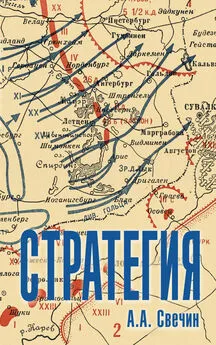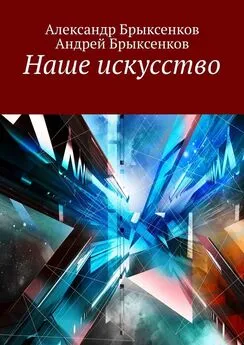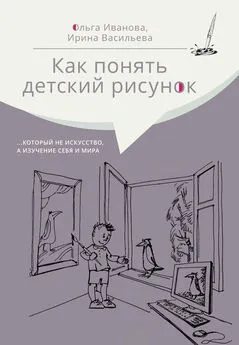Александр Копировский - Церковное искусство. Изучение и преподавание
- Название:Церковное искусство. Изучение и преподавание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89100-172-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Копировский - Церковное искусство. Изучение и преподавание краткое содержание
Предназначена для учителей, преподающих искусство Средних веков, а также для преподавателей и студентов теологических и педагогических факультетов.
Церковное искусство. Изучение и преподавание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Слова св. Иоанна Дамаскина «образ есть откровение и показание скрытого» [81] Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против отвергающих святые иконы // История эстетики. Т. 1. С. 336.
тоже имеют античные корни. Но акцент в них делается на том, что образ святого, тем более – Самого Спасителя, все-таки показует, т. е. являет скрытое. Не намекает на него, а именно «показует», не претендуя при этом на идентичность с ним. В этом пункте, а вероятно и в некоторых других, был возможен диалог с иконоборцами, если бы они не перевели богословскую и церковно-практическую проблему в политическую, идеологическую и не начали открытых гонений на инакомыслящих (к сожалению, тем же согрешали и победившие иконопочитатели).
В истории древней Руси ожесточенные споры об иконе, которые возникли через 800 лет после византийского иконоборчества, велись на неизмеримо более низком богословском уровне. Это показало так называемое «дело дьяка Висковатого», крупного российского государственного чиновника середины XVI в. Дьяк Иван Висковатый, человек весьма образованный, пытался указать на несообразности в новых иконах, перегруженных догматическими сюжетами.
Назвать эти иконы духовным откровением вряд ли возможно. Лики в них почти не видны, основное место занимают многофигурные сюжеты, сложные композиции, расположенные вплотную (ил. 10). Рассматривать такие образы полезно и интересно, они по-своему даже вдохновляют, но о молитве здесь говорить трудно. Такие иконы писались для других – познавательных или, наоборот, медитативных целей.
Дьяку Висковатому на его вопрошания митрополит Макарий ответил императивом: «Говоришь де и мудрствуешь о святых иконах не гораздо. <���…> Не велено вам о Божестве и о Божиих делех испытовати. <���…> Знал бы ты свои дела, которые на тебе положены, не разроняй списков» [82] Цит. по: Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. С. 253.
. Но при этом профессионально возразить Висковатому и детально проанализировать сюжеты, доказать свою правоту, а не декларировать то, что это не западное, а действительно православное церковное искусство, или пусть даже западное, но по сути православное, не смог никто, в том числе и сам впоследствии канонизированный митрополит Макарий.
От этого спора, который подробно описан Л. А. Успенским [83] Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. С. 253–262.
, перейдем в XVII в. и рассмотрим частный случай – полемику известного иконописца Иосифа Владимирова с неким сербским дьяконом Иоанном Плешковичем. Владимиров – сторонник новых икон, светлых, ярких, более объемных, их тогда называли «живоподобными» (ил. 12). Иоанн Плешкович – сторонник древней традиции, он любит темные строгие лики. Дух диалога можно оценить уже по тому, что в пылу полемики Владимиров называет своего оппонента, в частности, «блекотливым козлищем». Форма диалога при этом сводится к противопоставлению друг другу двух монологов [84] См.: История эстетики. Т. 1. С. 443–453.
. В ряде текстов XVII в. авторы (особенно протопоп Аввакум) тоже не стеснялись в выражениях, по современным меркам непечатных [85] См., например: Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения / Ред., вступ. ст. и коммент. Н. К. Гудзия. [М.]: Academia, 1934. С. 233.
. Понятно, что плодотворности диалогу такой подход не прибавил.
Но и в начале XX в. можно найти некоторые подобия вышесказанному. В текстах об иконописи выдающего православного философа и богослова свящ. Павла Флоренского, например в статье «Обратная перспектива», он спорит со своими оппонентами примерно в том же ключе, что и Иосиф Владимиров с Плешковичем. Отличие лишь в одном: о. Павел выступает, условно говоря, на стороне Плешковича против Владимирова, т. е. за древнюю иконопись против новой, «живоподобной». Основу последней он видит в эпохе Ренессанса, в гуманизме, который, по его мнению, – явление глубоко антихристианское. Вот цитата, которая тоже не требует комментариев с точки зрения диалогичности (точнее, ее отсутствия): «Первые тончайшие испарения натурализма, гуманизма и реформации поднимаются от невинной “овечки Божией” – Франциска Ассизского, канонизированного, ради иммунизации, по той простой причине, что вовремя не спохватились его сжечь» [86] Флоренский Павел, свящ. Обратная перспектива. С. 140.
. К концу жизни о. Павел Флоренский несколько снизил накал обличений возрожденческой культуры. Он отнес споры с ней к «последним спорам» и писал, что те, кто придут после, просто скажут ей роковое «не надо…» [87] Флоренский Павел, свящ. Итоги // Вестник РСХД. 1974. № 1 (111). С. 62.
. Тем не менее стремления к диалогу не видно и здесь.
В начале XX в. церковное искусство было открыто заново. Реставрировались древние иконы, о них заговорили, и многие оценили иконопись выше, чем светскую живопись. Даже знаменитый французский художник-постимпрессионист Анри Матисс восторгался иконой. В интервью после посещения собрания икон Третьяковской галереи он сказал: «Здесь первоисточник художественных исканий. <���…> Русские и не подозревают, какими художественными сокровищами они владеют. <. > Ваша учащаяся молодежь имеет здесь, у себя дома, несравненно лучшие образцы искусства… чем за границей. Французские художники должны ездить учиться в Россию. Италия в этой области дает меньше» [88] Матисс А. Сборник статей о творчестве / Под ред. А. Владимирского. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. С. 98, 99.
. Казалось бы, наступило время обращения к духовным ценностям, появилась возможность внутреннего диалога с иконными изображениями. Но этого и здесь не получилось.
Приведу фрагмент стихотворения И. А. Бунина, написанного в 1916 г., под названием «Архистратиг»:
Архистратиг средневековый,
Написанный века тому назад
На церковке одноголовой,
Был тонконог, весь в стали и крылат.
<���…>
Кто знал его? Но вот, совсем недавно
Открыт и он. По прихоти тщеславной
Столичных мод – в журнале дорогом
Изображен на диво. И о нем
Теперь толкуют мистики, эстеты,
Богоискатели, девицы и поэты. [89] Цит. по: Катаев В. Трава забвения // Его же. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1972. Т. 9. С. 286. Окончание стихотворения было вначале запрещено цензурой, затем исключено самим И. А. Буниным из более поздних изданий.
Смысл этих горько-ироничных строк понятен. Диалог не мог состояться уже потому, что не возникло серьезного вопрошания, желания обсудить проблему, услышать друг друга в открытости к возможному ответу. «Гласом вопиющего в пустыне» остались и изданные в 1915–1917 гг. лекции об иконописи князя Е. Н. Трубецкого [90] Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе.
.
Интервал:
Закладка: