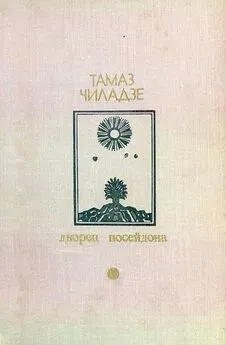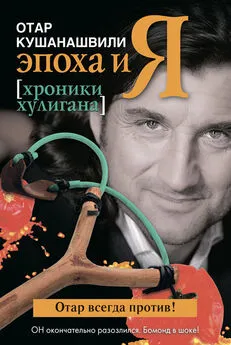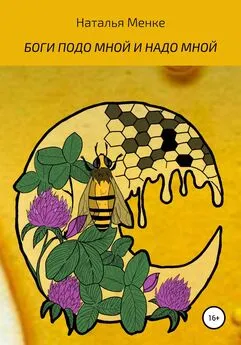Отар Чиладзе - И ВСЯКИЙ, КТО ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ...
- Название:И ВСЯКИЙ, КТО ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Известия»
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Отар Чиладзе - И ВСЯКИЙ, КТО ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ... краткое содержание
И ВСЯКИЙ, КТО ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Оба молча поглядели друг другу в глаза. Присевшая на перила веранды птичка сейчас же вспорхнула обратно, словно удивилась, встретив майора и священника именно здесь.
— Чего только не приходится слышать уху человеческому! — вежливо изумился отец Зосиме, чтобы не казаться равнодушным к волнению майора.
— Поди разберись… — сказал майор, весь еще под впечатлением собственного рассказа. В его глазах мерцали блестящие искорки.
— Этого тебе говорить не следует. — Теперь священник в свою очередь наклонился к майору, и его щеки опять сморщила улыбка. — Сомнение тоже болезнь… и трудноизлечимая! — добавил он, выпрямившись и откинувшись на спинку стула.
— Почему не следует? — раздраженно осведомился майор.
— Ты, Кайхосро, человек хитрый… не зря ж тебя вся Уруки уважает, — ответил отец Зосиме и, осушив свой стакан, поставил его рядом с пустым стаканом хозяина.
Так было почти ежедневно. Между балясинами веранды виднелись цветки фасоли — воронкообразные, неказистые, без запаха и цвета и все-таки привлекательные, успокаивающие! Над кустом китайского жасмина вились пчелы. Стол был покрыт влажными, переплетенными одно с другим кольцами — следами донышка кувшина. «Доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» — доносилось из-за ограды; и, беседуя, они даже не замечали, как сближались, как они, люди разных представлений и взглядов, постепенно становились необходимы друг другу. «Плохо, что народ веру в бога потерял!» — говорил отец Зосиме. «Веру в бога или в вас?» — злорадно уточнял майор. «Это одно и то же, — отвечал отец Зосиме. — Когда-то и мы большой силой были. Мы, голубчик, случалось, самому царю Горгасалу по зубам давали…»
Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм, — били огромные, как шкаф, часы; но и без них жизнь ни на миг не остановилась бы! Каждый миг что-то происходило, каждый миг что-то рождалось или умирало, цвело или поддавалось тлению, исцелялось или заболевало. И только болезнь Кайхосро была вечной — она его не убивала, но и не покидала. Постепенно, однако, он привык и к болезни; познакомившись с ней поближе и как бы заключив с ней соглашение, он встречал каждый очередной приступ горячим кирпичом и отварами всевозможных трав. Платок, в который Анна укутывала горячий кирпич, побагровел, прожегся и местами обтрепался, Но сам кирпич от частого разогревания закоптился и стал еще тверже; так что было вполне возможно, что Кайхосро и с этой болезнью проживет целый век, наподобие чьей-то свояченицы. После каждого приступа, правда, он ослабевал, как женщина после родов, и еще дня два-три обливался холодным потом, но и теперь жизнь привлекала его не меньше, а, пожалуй, даже больше прежнего! Собственный сын уже называл его отцом, сам садился на осла, подкидывал в постель Георги лягушек и червей, долбил камнем клювы курам, по горло закапывал живых цыплят в раскаленный солнцем песок, много и еще всяких забавных проделок придумывал — единственный сын своего отца, надежда отца, Петре, Петрикела…
Кайхосро было почти не в чем упрекать судьбу: в сущности-то, его жизнь могла сложиться и куда хуже. Но одно необычное происшествие, случившееся в то время в У руки, вновь напомнило ему о том, что у него есть враг и похуже болезни — враг, появления которого можно ждать в любую минуту. Урукийцы стали свидетелями действительно очень странной мести: кто-то (возможно, конечно, что их было и несколько) за ухо пригвоздил Гарегина к двери его лавки. Всю ночь Гарегин провел, стоя на цыпочках, как бы танцуя лезгинку, — в момент пригвождения он, ожидая боли, невольно приподнялся, в этом положении гвоздь и пронзил его ухо. Когда к лавке сбежался народ, кровотечение уже прекратилось, на стекшую по двери кровь слетелись мухи, а жена и дети Гарегина, ошеломленные несчастьем мужа и отца, сидели на полу на корточках и, тихо, беспомощно скуля, глядели на него, от страха и боли, казалось, совсем оцепеневшего, но переносившего нечеловеческие муки со стойкой безропотностью, подобно слабому телом, но непреклонному святому. Сознание он потерял лишь после того, как кузнец Стефане вытащил гвоздь с присохшей кровью — тогда колени Гарегина подогнулись, и он рухнул бы на землю, не подхвати его кузнец на руки вовремя. Лишь тут, вскочив с полу, с воплями подбежали и домочадцы Гарегина, как будто до этого ничего страшного с ним случиться еще не могло или же словно он был действительно святым и его мощами следовало овладеть прежде, чем это придет в голову другим. Было очевидно, что злодеяние совершено каким-то совсем уж отпетым головорезом, — этим лишь и могло объясняться то, что домашние Гарегина всю ночь и пикнуть не посмели и не только звать на помощь, но даже подложить ему под пятки кирпич, чтоб хоть отчасти облегчить его муки, и то побоялись! Назвать этого злодея и женщина, и дети, и сам Гарегин отказались наотрез. Со скулами, растертыми уксусом и водкой, посинев, как Христос в гробу, испуганно озираясь вокруг, Гарегин лишь бессильно мотал головой, и на его белых губах дрожала слабая, бессмысленная, беспричинная улыбка. Видя, что любопытные и сочувствующие не отстают, он даже пробормотал, что пригвоздил себя сам, во исполнение давнего обета. Но этому, конечно, никто не поверил — налицо была явная месть; ни причины ее, ни личности мстителя установить, однако, не удалось.
— Хозяина в стране нет… — заметил кто-то.
Кайхосро надулся, словно ему намекнули, что ни от чего не застрахован и он, что в один прекрасный день какую-нибудь подобную шутку могут сыграть и с ним.
Да, опасность угрожала непрерывно, на каждом шагу, от нее не был застрахован никто; беззащитны были все одинаково. Для смерти не существовало ни железных ворот, ни каменных стен, для нее и Гарегин, и майор были равны — различать она не умела. Но смерть смерти рознь! Недавно еще, правда, он сам доказывал отцу Зосиме, что любая смерть одинакова; но теперь уж это его не устраивало! Теперь смерть была для него двуликой: от бога и от человека. Одна действительно и неизбежна, и крайне неразборчива— ей все, и он в том числе, обязаны подчиняться беспрекословно; но вот другая смерть, смерть от человека, смерть, которой он боялся больше всего, не должна была, если на свете есть хоть какая-то справедливость, быть настолько слепой, чтоб не отличить майора от лавочника… И все-таки он знал, что блеск его эполет никого от убийства не удержит; знал он и то, что бог, запретив человеку убивать себе подобных, этим лишь еще больше разжег в нем страсть к убийству — и человек убивает без конца! Сколько раз ужасали Кайхосро жестокость и неистовство человека… каких только убийств не насмотрелся он с того дня, когда у него на глазах вырезали всю его семью! Каким только оружием не убивали друг друга люди из ненависти, любви, трусости или невежества! Ведь, в сущности, десять заповедей — это не что иное, как перечисление десяти главных потребностей человека; а человечность — лишь робкая попытка не подавить, нет, но хоть немного приглушить эти десять потребностей, одна другой сильней и неодолимей! Человек всегда убивал своего брата или давал ему убить себя, ибо больше всего его раздражало существование именно брата, именно человека, во всем подобного ему самому, одной плоти и крови с ним самим. Именно ремесло брата всегда казалось ему прибыльней и легче собственного, именно женщина, которой коснулся брат, была для него привлекательнее всех прочих; и он был уверен, что, убив брата, заживет припеваючи — займется ремеслом, недоступным ему при жизни брата, возьмет в жены женщину, познать которую уже успел брат. Проклятие это исходило от самого бога и избавиться от него можно было лишь одним способом: на все закрыть глаза, от всего отказаться… но и это невозможно, ибо тогда человек пришел бы просто к отказу от существования, заменил бы братоубийство самоубийством, вот и все! Самоубийство же — потребность отнюдь не общечеловеческая и не зря считается делом недостойным, бессовестным и преступным; ибо самоубийца не только разрушает веру сорока тысяч братьев в свою одинаковость с ним, но и попросту лишает их возможности самим убить его. Таким образом, получалось, что бог с самого начала обрек человека на гибель. Он дал человеку жизнь, но и поручил ему самому охранять ее; поручил, хоть и знал, как трудно ухаживать за жизнью, оберегать жизнь — особенно же человеку, созданному из нежной, болезненной ткани, которую легко побеждают и вода, и земля, и огонь, и воздух! Правда, у Кайхосро был такой дом, что и урукийцы и случайные прохожие шеи себе выворачивали, глядя на него, глаз с него не сводили, пока дом этот не скрывался из виду. Но даже такой дом не мог спасти своего хозяина от смерти — смерть потому ведь и смерть, что остановить ее нечем, что она непременно придет и разыщет тебя, хоть бы ты не имя, а собственную шкуру подменил! Впадая от этих мыслей в отчаяние, Кайхосро ненавидел уж и свой двухэтажный особняк с каменной оградой и железными воротами, и свое имя, спрятавшись за которым с целью перехитрить смерть он в действительности просто сам себя одурачил. Как мог спасти его чужой род, сам уже умерший, сгинувший, выродившийся и существовавший-то теперь лишь благодаря ему — лжепотомку, лженаследнику, лжецу? И поделом ведь, если кровь этого рода была такой буйной и строптивой, что даже его двухмесячных младенцев маковым отваром успокаивать приходилось… «Господи, помилуй… господи, помилуй!» — бормотал Кайхосро ночью, в бессоннице. Но он тут же раздражался, вспомнив, что сам не знает, кто он такой и, стало быть, о чьей милости просит!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: