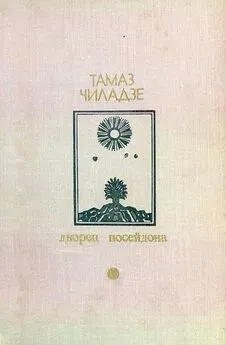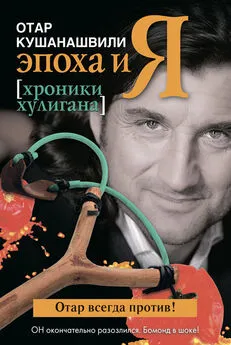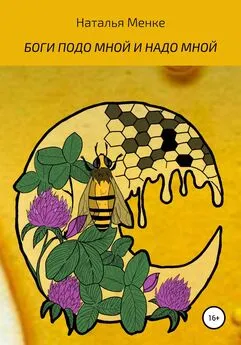Отар Чиладзе - И ВСЯКИЙ, КТО ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ...
- Название:И ВСЯКИЙ, КТО ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Известия»
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Отар Чиладзе - И ВСЯКИЙ, КТО ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ... краткое содержание
И ВСЯКИЙ, КТО ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Без свиного сала отец жить не может! — заявил Петре.
— Вот и тебе его попробовать надо! — сразу оживился Кайхосро, словно в комнату вдруг вошла красивая женщина. — Такого ты нигде больше не получишь, я его своими руками готовлю. У нас не умеют… Я и свинью на откорм каждый год сам выбираю, и клеть особую придумал — как раз такого размера, какого свинья должна стать к Новому году. Она у меня на короткой цепи сидит, чтоб двигаться не могла, лежать привыкла. А жрать я ей даю до отвала, таз с похлебкой у нее всегда перед носом: хочешь не хочешь, жри все время! На то ты и свинья! Зато потом сало у нее такое нежное — само во рту тает. Режешь его острым, хорошо наточенным ножом на тонкие ломтики — сами сворачиваются как пергамент. А кое-где розоватый такой налет, как на лепестках чайной розы. Обо всем остальном — после, когда попробуешь… К водке в самый раз! Это меня приятель один научил… тот самый, которого цыгане украли. Помнишь, я тебе рассказывал? — повернулся он к отцу Зосиме.
— Цыгане? — заинтересовался доктор Джандиери.
— Ну да… в детстве.
— Хороший они народ, цыгане! — улыбнулся доктор Джандиери.
Анна сидела рядом с Кайхосро — муж силой усадил ее возле себя, и она не противилась, не могла противиться, стесняясь гостя и зная, что Кайхосро сделал это нарочно, только чтобы показать, как они друг без друга жить не могут. Она сидела скованно — ей казалось, что гость все время смотрит на нее своими теплыми, проникающими в душу глазами и по ее лицу понимает все. Ей же почему-то хотелось, чтоб он ничего не знал об ее жизни, чтоб он считал ее счастливой, довольной своей участью, ценимой верным мужем и любящими детьми хозяйкой дома — так, словно поняв подлинную жизнь этого дома, он уже не смог бы быть таким свободным, так непринужденно смеяться, наслаждаться едой и вином; так, словно жившая в этом доме ненависть не только отравила бы его трапезу, но и запачкала бы его самого, не позволила бы ему выйти отсюда таким же чистым и чужим, каким он сюда пришел! А зачем ему это? Зачем ему втягиваться в их несчастье? Он не имел права становиться таким, как они, он был обязан спасти, сохранить до конца свою чистоту и чужеродность — не так даже для себя самого, как для Анны, для подтверждения ее веры в то, что не все люди одинаковы, что где-то, и не в мечтах, а на самом деле, существует другой мир — смелый, свободный, счастливый, словно девочка на качелях… мир, населенный людьми, одинаково чистыми, одинаково чуждыми и ей, и всем ей подобным, людьми добрыми и наивными, как дети, людьми, верящими, что Кайхосро, или Петре, или Георгу, или ее можно еще вылечить! Их гость пришел именно из этого, другого мира — из мира добра, чистоты, спокойствия, света, из мира, к которому Анна тянулась с самого рождения, из мира, в котором она прожила всего два месяца и который для нее закрылся уж навсегда. Но он не должен закрыться и для него — для этого человека, сидевшего в двух шагах от нее, как свой, родной, и пухлыми беспокойными пальцами теребящего кусочек хлебного мякиша. Он нужен тому, своему миру, его существование делает этот мир сильнее и долговечней; здесь же он излишен, бесполезен, да и совершенно беспомощен, ибо лекарства от мучившей их болезни бог еще не создал и вряд ли создаст — сама болезнь эта выдумана ведь не им! Так что единственно хорошее, что мог бы тут сделать гость, хвати у него решимости, — это залить весь дом керосином и сжечь его, как постель чумного! Его привели сюда его доброта, его долг, а верней, мечта, владевшая им настолько, что, как он сам сказал, заметить нечистоту больного, почувствовать исходящую от него вонь он попросту не мог. Ибо — и это он сказал тоже — врач, испытывающий к больному не жалость, а отвращение, — это уже не врач. И Анне не хотелось, чтоб он почувствовал к ней отвращение, понял, куда он попал, куда его привели доброта и долг (нет, не долг — мечта!); и в то же время она, и сама этому удивляясь и радуясь, жалела этого человека, как глупого ребенка, опустившегося на колени перед бешеной собакой, ласково гладящего ее покрытую пеной морду, с удовольствием чистящего от клещей ее гниющую на теле шерсть — ведь он еще ребенок, еще глуп, и ни малейшей осторожности, ни брезгливости у него нет. Поэтому, если его родители не подоспеют вовремя… Да нет, они обязаны подоспеть, обязаны спасти ребенка!
— И Георгий тоже болен, доктор… старший мой, — сказала она и замерла, как бы удивившись сама себе.
— Георгий? А у вас и старший есть? — заулыбался доктор Джандиери, словно поняв из этих слов лишь то, что у нее, совсем еще молодой и красивой, такие взрослые дети. — Ну-ка, покажите мне его!
— Болен? Мне б так болеть!.. — проворчал Кайхосро, протягивая руку к кувшину. — Почему ты ничего не берешь? — хмуро обратился он к отцу Зосиме; но тот в ответ лишь прижал обе руки к груди, показывая, что сыт, больше не может. — Сегодня нашу хозяйку можно простить: она гостей не ждала…
— Дайте я хоть взгляну на него, — сказал доктор Джандиери.
— Его нет дома, — объяснил Петре. — Виноградник вскапывает.
— Ха-ха-ха! — снова от всей души рассмеялся врач, не сводя, однако, глаз с Анны; и на этот раз она не отвела взгляда. — Ну что ж… если он виноградник вскапывает, значит, я ему действительно не нужен!
— Он славный мальчик: сердечный, трудолюбивый… — заметил отец Зосиме, причмокнув губами. — Ну вот… спасибо всевышнему, спасибо хозяину! Все было очень вкусно…
— Погоди, старина! Ну что это за привычка — так сразу и уходить? — сморщился Кайхосро.
Но встал уже и доктор Джандиери, рослый, привлекательный, с доброй улыбкой.
— Надеюсь впредь к вам только на свадьбы и крестины ездить! — сказал он Анне.
Свои вцепившиеся одна в другую руки она прятала от врача под фартуком; но сейчас ей уже не хотелось, чтоб он уходил. Она чувствовала, как опустела за ее спиной комната, где он только что сидел, говорил, смеялся, теребил хлебный мякиш. Она вдруг привыкла к этому человеку, но, не имея надежды увидеть его вновь, так же легко мирилась с его потерей, как это бывает с детьми, которым достаточно минутки, чтоб счесть снизошедшего до них, поигравшего с ними, вошедшего в их интересы чужого дядю своим лучшим другом, всем сердцем ему довериться, но потом так же легко и расстаться с ним, забыть его… И все-таки в первый миг, пока слышны еще его шаги — уже деловые, взрослые, уходящие из их мира, — детьми овладевает не только скоропреходящее разочарование, скоропреходящая печаль, вызванная неожиданным окончанием игры, но и такое же скоропреходящее удивление тем, что он вообще до них снизошел, повел себя не по-взрослому. Он уходил, и это печалило, огорчало Анну, но она и сама удивлялась этому беспричинному, едва ли не глупому огорчению. Вот он уж одной ногой встал на ступеньку двуколки, и двуколка чуть-чуть прогибается, а лошадь фыркает и вскидывает голову. Уже сидя на облучке, с поводьями в руках, он еще раз взглядывает на нее, еще раз улыбается, величественный, как бог, свободный, приветливый; и улыбка эта гладит ее лицо, как солнечный луч. «Да святится имя господне…» — молится про себя Анна, испуганно, растерянно, счастливо! Потом она поспешно вбегает в комнату, чтобы отделить стакан и тарелку, которых касались его руки, забрать их до того, как вся грязная посуда перемешается. Их она вымоет отдельно и отдельно спрячет — это его тарелка, его стакан, их она даст только ему, если он когда-нибудь приедет вновь. На столе — кусочек хлебного мякиша, похожий на маленькую глиняную куклу и хранящий следы его пальцев; Анна берет его в руки и бездумно, машинально съедает — лишь тут она вспоминает, что всю неделю у нее во рту маковой росинки не было! А коляска едет, покачивается на безлюдной дороге, и вечернее солнце приятно греет плечи человеку на облучке. Его голова чуть кружится от вина, выпитого, чтобы подбодрить больного; его ноздри приятно щекочет запах пролитого на сюртук лекарства. Это отвар фенхеля на меду, нехитрое успокоительное средство, которое больные, однако, пьют с отвращением, отчаянно хватаясь за руку врача и проливая на него добрую половину ложки с лекарством, — изможденные, отощавшие, обессиленные болезнью, но от страха и недоверия неожиданно упрямые (а верней, не упрямые, а стойкие!). «Что с человеком?» — думает он, сидящий на облучке, болеющий за всех, заботящийся обо всех, а сам неимущий и одинокий, отвыкший от горячей еды и спокойного сна, путник бесконечной дороги от больного к больному: однообразной, вызывающей всегда одни и те же мысли дороги. Ведь он, Эскулап с посохом и дорожной сумкой через плечо, все знающий и все повидавший, вызывающий невольное уважение и восхищение, на деле — беспомощный невежда обыкновенный обманщик, сеятель ложных обещаний и надежд, незаслуженно почитаемый и выбегающим ему навстречу ребенком, и самим больным на его зловонном одре, и родными больного, ждущими приговора молча, со скрещенными на груди руками. Ибо и он, Эскулап, не может проникнуть в логово главного недуга — в человеческую душу, не может и открыть надеющимся на него людям правду, сказать, что их болезнь неизлечима, что чесотка и запор пустяки в сравнении с кипящим в их душах адом, которому они дают убивать себя, не задумываясь, не рассуждая, с каким-то даже неземным упоением! «Что с человеком? Что с ним стряслось?» — думает он, глядя на лоснящийся круп лошади; и перед его глазами вновь встает то неестественно улыбающийся майор, то Петре, морщащийся при одном упоминании имени брата, то поминутно переводящий с темы на тему разговор отец Зосиме, то прячущая руки под передником, растерянно глядящая Анна. С шумом мчатся назад свесившиеся над дорогой ветки, одна деревня сменяет другую, кое-где в окнах уже мерцают спокойные огоньки цвета спелой айвы; время от времени за двуколкой с лаем бросается в погоню какой-нибудь не совсем еще обленившийся пес. Сумерки сгущаются, дорога становится уже; лошадь спотыкается, пыхтит, как человек, погруженная в свои мысли, пропитанная запахами пройденных сел и знойных полей, знающая свое дело, бесконечно ему преданная… «Что с нами, голубушка? Что с нами стряслось?» — спрашивает ее сидящий на облучке; и сердце лошади наполняется гордостью: хозяин вспомнил ее, хозяин заговорил с ней! Теперь она с еще большей охотой рассекает уплотнившуюся от невидимой пыли тьму, ее спина вздрагивает, запотевшие бока блестят — и все это вместе взятое называется жизнью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: