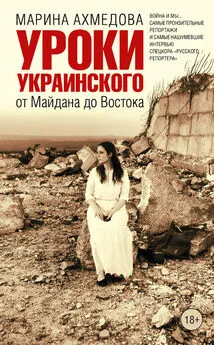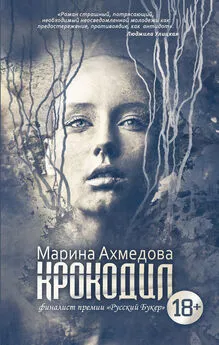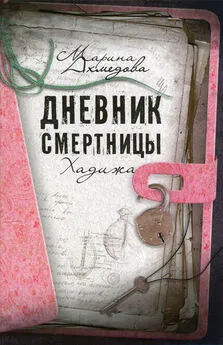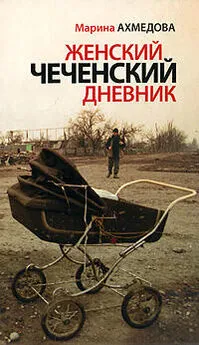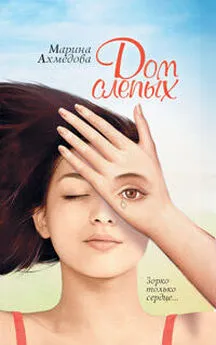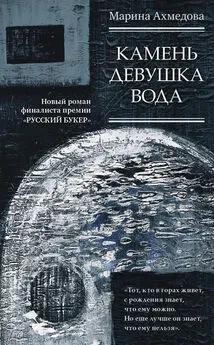Марина Ахмедова - Пляски бесов
- Название:Пляски бесов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-092528-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Ахмедова - Пляски бесов краткое содержание
Однако главная война идет в человеческой душе. Сам ли человек делает выбор или его судьба предопределена? И нужно ли, как в древние времена, приносить жертву ради благополучия многих или же, напротив, пролитая кровь жертвы повлечет за собой реки крови?
Пляски бесов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дарка же, выбежав из церкви, на одном духу миновала двор, выскочила на дорогу, и там была сбита проезжавшим микроавтобусом. Не то чтобы он ехал на большой скорости, но сил в нем оказалось побольше, чем у Дарки, голова которой от удара свернулась назад. И вот теперь-то, глядя на эту худосочную женщину, скорченную смертью, не понять было – а что ж в ней оказалось такого, чтоб настолько напугать отца Василия и деда Панаса, который, как мы уже знаем, еще и не то видел? А может, они углядели того, кто невидим взору других? Трудно, сложно тут разобраться. Можно было б, конечно, порассуждать, что, мол, не в Дарку отец Василий заглянул, а в самого себя. Что, мол, Даркино настоящее он принял за свое прошлое, которое не то что туманец с озерца. Прошлое вот так просто из себя не выдохнешь. Никогда, никогда нам не узнать доподлинно, что привиделось им в тот день, когда погибла Дарка. Не понять, не разобрать. И пытаться даже не стоит, ведь все попытки упрутся в досужие рассуждения.
Дополнить картину наших размышлений можно лишь фактами. Поэтому призовем их на помощь. Они таковы. Покидая церковь, бабка Леська назвала Панаса в глаза иудой.
– То было зло, – как бы извиняясь, проговорил тот ей в черный след.
– Не иметь совести – вот абсолютное зло, – обернувшись, плюнула Леська ему под ноги.
Василий Вороновский ей тогда ничего не сказал, но плевок в обители своей он ей позже припомнит и обожжет губы крестом так, что частью сделает за ад его работу – там Леська покажется уже с черным ртом. Но разве не таким он был у нее всегда? Черным-черным, злым, коверкающим Евангелие Божие. Но всегда ль? Неужто и в тот день, когда пыталась она спасти из огня двух сестер своих родных и племянника? Не тогда ли наполнился ее рот погаными словами, а душа – почернела? Но если так, то можно ли бабку Леську судить за грехи, последовавшие после пожара? Не смывает ли их то, что было вначале – в той деревянной хате, подожженной рукой советского командира? И можно ли смыть новые грехи старыми добродетелями, или же и добродетели непременно должны быть новыми? Загвоздка в том, что для ответа на эти вопросы требуется безоговорочная вера в ад и рай…
Но скажем теперь следующее: вот так бесполезно Дарка закончила свою молодую жизнь. А сестра ее Стася осталась жива. Бабка Леська ль тому поспособствовала или львовские доктора? Выводы можно будет сделать только позже – когда спустя время ведьма потребует расплаты. К рассказу об этом мы и перейдем сейчас.
Лес, росший на горе, казался короной, надетой на ее мягкую голову. Птицы трещали вовсю, насекомые жужжали, совершая стремительные короткие перелеты. Разгорячилось лето – еще одно в Волосянке. Тут все шло своим чередом, парни с девушками сходились и расходились, но чаще сходились, чтобы прожить вместе всю жизнь, новые люди нарождались, старые умирали, но, по обыкновению, смертью своей. Так что после Дарки, умершей насильственной смертью, принятой от микроавтобуса, таких случаев ни в самом селе, ни с его жителями больше, слава богу, не происходило. Да и то, что произошло с Богданом, Светланкой и Даркой десять лет назад, уже забылось. И в том своя суровая деревенская закономерность была – к чему помнить о тех, кто ушел в землю, не оставив после себя ничего, кроме страшных рассказов, которые помотались, помотались по селу, да и ушли себе, вытесненные новыми событиями, происшествиями и впечатлениями. А уж впечатлений в селе стало куда больше, когда нагрянувшая одновременно с теми печальными событиями, о которых речь шла выше, свобода пооткрывала все границы, и просторы зарубежные распахнулись до отказа – езжай не хочу. И правда, для того чтобы границу с польским государством пересечь, теперь достаточно было иметь одно желание. А из Польши дальнейшие горизонты открывались – европейские. Туда и потекла молодежь – на заработки. Как там ее привечали – по-хорошему или по-плохому, – судить не возьмемся, но возвращались они с деньгами, и на деньги эти тут, в Волосянке, можно было безбедно жить.
Постепенно жизнь выравнивалась – сельчане пошли дома новые строить взамен старых. И каждый старался, чтоб его дом был больше и приятней для взгляда, чем у соседа. Так и проходила жизнь сельчан в работе и соревнованиях – у кого достатка больше. Только Богдан один маялся. В мешковатой одежде, бывало, появлялся на сельской дороге, ходил вдоль и поперек Волосянки, всем улыбаясь, со всеми вежливо здороваясь, и напоминал одним видом своим о временах нестабильных и мутных, которые, как о том молились старики, лучше б сюда больше не возвращались.
Было три места в селе, у которых обыкновенно останавливался Богдан. Одно – дом, в котором жил отец Дарки с дочкой Стасей – Сергий. Ничего особенного в том доме не было – один этаж, выстроенный из красного кирпича, и обычный двор, загороженный уже не деревянным, а железным забором. Теперь-то дом этот не шел ни в какое сравнение с домом школьного директора Тараса, который когда-то считался в селе самым зажиточным. А до того Сергий считался мужичком убогим, и казалось, что все, на что ему даны способности, – это крутить руль колхозного грузовика. Сейчас же Сергий неделями колесил по Польше за рулем КамАЗа, перегоняя европейские грузы. Еще поговаривали, что из Львова в Польшу он возил сигареты и продавал их там в три, а то и в четыре раза дороже. Вот и неудивительно, что заработал он на дом из кирпича и новую оградку и вообще достатка достиг повыше, чем большинство сельчан. Хотя были в селе люди, которые, как Тарас, не сумели приспособиться к новой жизни и привыкнуть к тому, что знания больше не имели цены. Ценным был физический труд, а вместе с ним – желание пересечь границу. Профессорами ведь, докторами и учителями волосянские в Европах не становились. Трудились они там руками, ногами и всеми своими жилами, не гнушаясь тянуть последние на такой работе, делать которую сами европейцы давно отказались.
Но вернемся ненадолго к Богдану. Во время редких прогулок по селу первую остановку делал он напротив дома Сергия и, улыбаясь, смотрел через оградку. Но не подумайте, что улыбался он самому дому или кому-нибудь из его обитателей. Ничуть. Богдан Вайда любовался цветами, которые пестрели то тут, то там по двору. На смену тюльпанам приходили рыжие лилии, произрастающие вблизи от только начинающих поднимать головы пионов. Но особенно хороши были мальвы – такого яркого цвета, что глаз от них горел. Высаживала их Стася, которой теперь было пятнадцать лет. Бывало, что Богдан заставал и саму Стасю копавшейся перед домом в земле.
– Добридень, дядь Богдан! – окликала она его.
Богдан улыбался ей той же улыбкой, какой теперь встречал каждого сельчанина. Хотя справедливости ради стоит сказать, что в глазах Богдана, спокойных, как стоячая вода, появлялась толика интереса, когда Стася опускала в ямку луковицу цветка – осторожно и с каким-то даже торжеством, словно та была сокровищем. Потом Богдан наведывался сюда снова – и всегда ровно в тот самый срок, когда цветок, вошедший в землю луковицей, уже начинал разворачиваться лепестками. И настолько Богдан в этом был точен, что впору было подумать, будто с каждым цветком он держит отдельную связь. Но сам цветов не сажал. Во дворе хаты, в которой он после смерти матери остался один, обосновались куры и петухи, которых Богдан резать жалел и развел в немыслимом для хозяйства количестве. Они чинно прохаживались по двору – и старые и молодые, – как и положено птицам, никогда не видавшим, как к горлу их сородичей приставляется нож.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
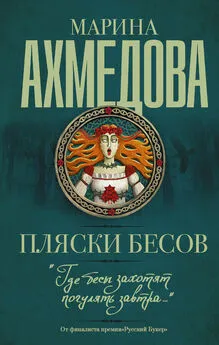
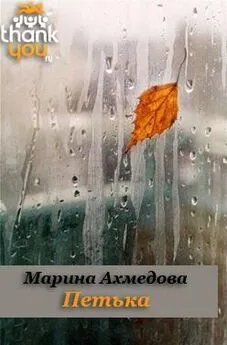

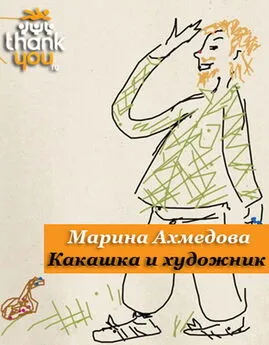
![Марина Баринова - Пляска на плахе. Плата за верность [СИ]](/books/1086430/marina-barinova-plyaska-na-plahe-plata-za-vernost.webp)