Павел Басинский - Скрипач не нужен
- Название:Скрипач не нужен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ : Редакция Елены Шубиной
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-085924-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Басинский - Скрипач не нужен краткое содержание
Почему не встретились два великих современника – Толстой и Достоевский? Что общего между «Мифом о Сизифе» Камю и поэмой «Человек» Горького? Почему бабочка из рассказа Варлама Шаламова «задает вопросы куда более страшные, чем знаменитая бабочка Брэдбери»? Что успел рассказать нам поэт Борис Рыжий, певец смутных девяностых, погибший – как и Лермонтов – в двадцать шесть лет? В чем секрет успеха Бориса Акунина, и почему последние романы Виктора Пелевина не обязательно дочитывать до конца?
Скрипач не нужен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Задумайтесь, почему учителя-словесники так любят использовать Тургенева для школьных диктантов? Да потому, что именно так надо писать! Тургенев был и остается хранителем русской языковой нормы. Но это так скучно! – скажете вы. Однако не считается скучным хранить меру весов и эталон времени. На этом держится цивилизация. Русская цивилизация с ее главным достоянием – русским языком – держится благодаря Тургеневу. Начитавшись Пелевина, Донцовой и Марининой, не худо свериться с эталоном подлинной русской речи, а эталон этот хранится в томах Тургенева, в «Записках охотника», «Отцах и детях», «Степном короле Лире»…
Вторая заслуга Тургенева перед русской цивилизацией состоит в том, что он не уставал напоминать, что мы – европейцы. Не евроазиаты, как нам настойчиво пытаются внушить, но – европейцы! При этом Тургенев – «почвенный» писатель. Только «почвенник» мог написать «Певцов» и «Живые мощи» – великие гимны русскому крестьянству. Но недаром и Гонкуры, и Флобер признавали, что французский язык Тургенева – чище, лучше, литературнее, чем у французов. Недаром незадолго до смерти его чествовали в Лондоне в качестве главного европейского писателя. И даже несчастная связь с Полиной Виардо, приносившая ему столько страданий, послужившая одной из главных причин разрыва с матерью, и даже смерть его не в любимом Спасском, а в пустом доме в Буживале, где его оставили умирать от рака, посещая лишь в самые последние дни, видится мудрым поступком. Тургенев самой смертью, последним вздохом неразрывно связал нас с Европой. Но ведь и Европу – с нами. Попробуй разорви!
Любопытно, что, если верить академическому полному изданию писем Тургенева, последнее в жизни письмо, управляющему имениями Н.А.Щепкину, он написал по-французски. Но вот членов семьи Виардо (если опять же верить некоторым мемуарам), собравшихся возле его смертного одра, напутствовал по-русски, вообразив себя русским крестьянином: «Любите друг друга! Мои милые, мои белесоватые…»
Дом в Буживале, который давно воспринимается как «дом Тургенева», а не семьи Виардо, пока находится в приличном состоянии. Местная мэрия строго следит за его сохранностью. Однако проблема в том, что содержание дома обходится дорого, он стоит вдали от туристических маршрутов. А земля в Буживале дорогая и манит богатых парижан. Таким образом, проблема дома в Буживале, как и проблема кладбища для русских эмигрантов в Сен-Женевьев, остается русско-французской головной болью. Ничего! Лишь бы голова продолжала болеть…
Раненое сердце
Поэзия и судьба Н.Н.Некрасова
«О муза! я у двери гроба…»
В январе 1864 года в Петербурге хоронили А.В.Дружинина. На отпевании в церкви Смоленского кладбища собрался весь бывший кружок журнала «Современник», литераторов сороковых годов, куда прежде, до разрыва с Некрасовым, входил и Дружинин.
«Очевидно, приличие требовало, – вспоминает современник, – чтобы при отпевании присутствовал и Некрасов… Никогда не забуду холодного выражения пары черных бегающих глаз Некрасова, когда, не кланяясь никому и не глядя ни на кого в особенности, он пробирался сквозь толпу знакомых незнакомцев…»
Это как нельзя лучше характеризует ситуацию, в которой оказался Некрасов в середине шестидесятых годов. Популярнейший поэт России, властитель дум, издатель самого читаемого в стране журнала, он жил в атмосфере душевного одиночества и непонимания со стороны близких людей. Петля враждебности стягивалась вокруг него.
В 1861 году умер Добролюбов. В 1864-м Чернышевского сослали в Сибирь.
Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие…
Старые друзья отвернулись от Некрасова в связи с расколом в «Современнике», который покинули Тургенев, Толстой, Фет, Дружинин. Что же касается новых друзей, так называемой «второй волны шестидесятников» (Антонович, Пыпин, Жуковский, Михайловский, Решетников, Ник. Успенский), – отношения с ними складывались порой двусмысленные, а порой и враждебные.
Конец шестидесятых – начало семидесятых годов – несомненно, один из самых страшных периодов в жизни Некрасова. В 1866 году ради спасения «Современника» он пишет «Оду Муравьеву», подавителю Польского восстания, после чего либеральная публика отворачивается от него. В том же году «Современник» все-таки запрещают. В 1869-м бывшие сотрудники «Современника» Жуковский и Антонович печатают «Литературное объяснение с г. Некрасовым», где сводят с ним денежные счеты. Некрасов, свидетельствует Антонович, обманул Чернышевского и Добролюбова. Сам при этом остался в стороне, живет барином. В том же году Тургенев в «Вестнике Европы» публикует «Воспоминания о Белинском», где выставляет Некрасова в самом невыгодном свете.
Что ты, сердце мое, расходилося?..
Постыдись! Уж про нас не впервой
Снежным комом прошла-прокатилася
Клевета по Руси по родной.
Не тужи! пусть растет, прибавляется,
Не тужи! как умрем,
Кто-нибудь и об нас проболтается
Добрым словцом…
Недалеко время, когда публике наскучит поэзия Некрасова, и она отвернется от него в ожидании нового кумира. Кумир не замедлит явиться. Им окажется молодой стихотворец С.Я.Надсон.
А пока в конце семидесятых годов смертельно больной Некрасов пишет цикл «Последние песни» – стихи, вознесшие его имя на величайшую высоту в русской лирической поэзии.
«Последние песни» (черновое название сборника – «Черные дни») пронизаны предощущением близящейся катастрофы. Гул грядущих мировых катаклизмов, зреющих в глубине ХIХ века, гул, еще не слышимый обывателем, явственно звучит в поздней лирике поэта. Поэзия стона переходит в крик. Чувство вселенского горя, непоправимости ошибок, допущенных человечеством, страх за судьбу родины – вот последнее, что мог выразить Некрасов перед смертью:
Дни идут… всё так же воздух душен,
Дряхлый мир – на роковом пути…
Человек – до ужаса бездушен,
Слабому спасенья не найти!
Но молчи во гневе справедливом!
Ни людей, ни века не кляни:
Волю дав лирическим порывам,
Изойдешь слезами в наши дни…
Так не могли написать ни Пушкин, ни Лермонтов. Должно было пройти время, чтобы русский поэт смог прийти к подобным откровениям.
Катастрофическое состояние души определило и образную структуру этих стихотворений. Реалист особого склада, Некрасов приходит к поразительному сочетанию глобальности поставленных вопросов с яркой конкретностью их художественного решения. В то же время задолго до символистов Некрасов выступает как подлинный «символист». Как, например, передать чувство бесконечного страдания, накопленного человечеством за века существования? Вот как решал эту тему поэт Иван Аксаков:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



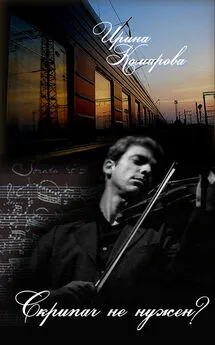

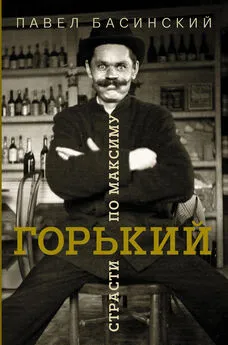
![Павел Басинский - Полуденный бес [litres]](/books/1098706/pavel-basinskij-poludennyj-bes-litres.webp)



