Павел Басинский - Скрипач не нужен
- Название:Скрипач не нужен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ : Редакция Елены Шубиной
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-085924-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Басинский - Скрипач не нужен краткое содержание
Почему не встретились два великих современника – Толстой и Достоевский? Что общего между «Мифом о Сизифе» Камю и поэмой «Человек» Горького? Почему бабочка из рассказа Варлама Шаламова «задает вопросы куда более страшные, чем знаменитая бабочка Брэдбери»? Что успел рассказать нам поэт Борис Рыжий, певец смутных девяностых, погибший – как и Лермонтов – в двадцать шесть лет? В чем секрет успеха Бориса Акунина, и почему последние романы Виктора Пелевина не обязательно дочитывать до конца?
Скрипач не нужен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Интересной была реакция Достоевского на так называемый «духовный переворот» Толстого. Она интересна еще и тем, что очень точно отражает мнение литературных кругов вообще о том, что происходило с Толстым в начале восьмидесятых годов. В мае 1880 года во время торжественного открытия памятника Пушкину в Москве, когда Достоевский произносил свою знаменитую «пушкинскую» речь, среди собравшихся писателей Толстого не было. Зато циркулировал слух, что Толстой в Ясной Поляне… сошел с ума. 27 мая 1880 года Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел». Это означает, что, возможно, слух о «сумасшествии» Толстого пустил в Москве именно Тургенев. Перед этим он посетил Толстого в Ясной Поляне, они помирились, и Толстой рассказал ему о своих новых взглядах. Но насколько же легко приняли братья-писатели этот слух, если уже на следующий день в письме к жене Достоевский сообщает: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев (Сергей Андреевич Юрьев – писатель и переводчик, председатель Общества любителей российской словесности, знакомый Толстого. – П.Б .) подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было».
То есть Достоевский, смущенный слухами о «сумасшествии» Толстого, решил не рисковать. Таким образом, еще одна возможность знакомства двух писателей была потеряна… едва ли не из-за обычного писательского злословия.
Но у Толстого с Достоевским был и еще один общий знакомый – графиня А.А.Толстая, тетка Льва Николаевича и его духовный корреспондент. Зимой 1881 года, незадолго до кончины Достоевского, она близко сошлась с ним. «Он любит вас, – писала она Толстому, – много расспрашивал меня, много слышал об вашем настоящем направлении и, наконец, спросил меня, нет ли у меня чего-либо писанного, где бы он мог лучше ознакомиться с этим направлением, которое его чрезвычайно интересует». Alexandrine , как называли ее в светских кругах, дала Достоевскому прочесть письма к ней Толстого 1880 года, написанные в то время, когда Толстой, по общему мнению, «сошел с ума». В «Воспоминаниях» она писала:
«Вижу еще теперь перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: “Не то, не то!..” Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича…»
Такова была реакция Достоевского на духовный кризис Толстого.
Совсем другой был отклик Толстого на смерть Достоевского.
5 февраля 1881 года (Достоевский умер 28 января старого стиля) Толстой писал Страхову в ответ на его письмо: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек… И никогда мне в голову не приходило меряться с ним – никогда. Всё, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца – только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом – я один обедал, опоздал – читаю: умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал, и теперь плачу».
За два дня до этого Страхов писал Толстому: «Он один равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком среди литературы, почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно было признано за “соблазн и безумие”…» Но что было «соблазном и безумием» с точки зрения литературной среды того времени? А вот как раз проповедь христианства как последней истины.
На этом, по мнению писателей, помешался перед смертью Гоголь, это было пунктом «безумия» Достоевского, и от этого же самого «сошел с ума» Толстой. И Толстой, не медля, принимает эстафету «безумия». Случайно или нет, но именно после смерти Достоевского с маленького рассказа «Чем люди живы», написанного в 1881 году, начинается «поздний» Толстой, взгляды которого на жизнь, на религию, на искусство совершенно противоположны тем, которые приняты в «нормальном» обществе и которые сам же Толстой недавно принимал…
Два завещания Льва Толстого
Бывают в жизни сюжеты, которые, представляясь на первый взгляд ничего не значащими, тем не менее крепко застревают в памяти и заставляют возвращаться к ним вновь и вновь. Так случилось с публикацией в первом номере журнала «Ясная Поляна» самой ранней редакции повести «Хаджи-Мурат» Л.Н.Толстого под названием «Репей».
Публикация «Репья» вместе со знаменитым обращением Льва Толстого «к людям-братьям» «Благо любви» – не открытие, эти тексты есть в академическом 90-томнике Толстого. Но почему-то именно эти тексты прочно засели в памяти, да так, что я долго не мог понять: в чем, собственно, дело?
Скажем банальность: смерть любого великого человека есть великая тайна. Мы, простые смертные, этими тайнами великих смертей (Данте, Байрона, Пушкина, Толстого) любим интересоваться, забавляться, развлекаться, но едва ли кто-то возьмет на себя смелость их действительно пережить. Это не в человеческих силах. Вот и публикация в «Ясной Поляне» навела меня на щепетильные мысли. Что считать духовным завещанием Толстого? В своеобразном постскриптуме к «Обращению к людям-братьям» (21 августа 1908 года) сам Толстой писал: «Я думал, что умираю, в тот день, когда писал это. Я не умер, но вера моя в то, что я высказал здесь, остается та же, и я знаю, что не изменится до моей смерти, которая, во всяком случае, должна наступить очень скоро».
Кажется, всё ясно. Вот оно, завещание! – подписанное, с очень важным, в почти юридической форме сделанным уточнением, смысл которого предельно прост: воля моя не изменится до смерти, все дополнительные варианты считать ложными. Я не силен в юриспруденции, но, вероятно, на языке закона всех цивилизованных стран есть такие формулировки, которые делают завещание единственным и уже неизменным даже волей самого завещателя (например, он опасается в будущем ослабления разума или давления со стороны каких-то заинтересованных лиц).
Итак, завещание Толстого: «Об одном прошу вас, милые братья: усомнитесь в том, что та жизнь, которая сложилась среди нас, есть та, какая должна быть (жизнь эта есть извращение жизни), и поверьте, что любовь, только любовь выше всего: любовь есть назначение, сущность, благо нашей жизни, что то стремление к благу, которое живет в каждом сердце, та обида за то, что нет того, что должно быть: благо, – что это законное чувство должно быть удовлетворено и удовлетворяется легко, только бы люди не считали, как теперь, жизнью то, что есть извращение ее…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



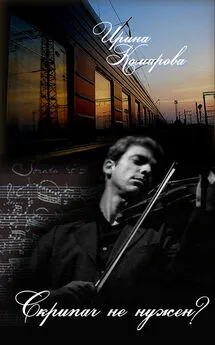

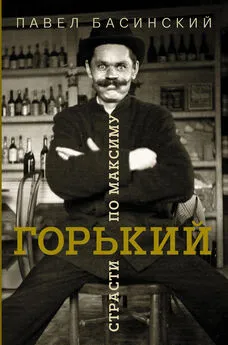
![Павел Басинский - Полуденный бес [litres]](/books/1098706/pavel-basinskij-poludennyj-bes-litres.webp)



