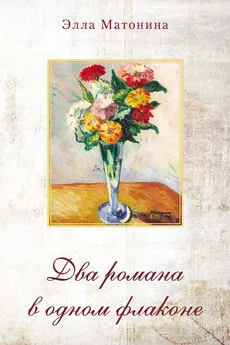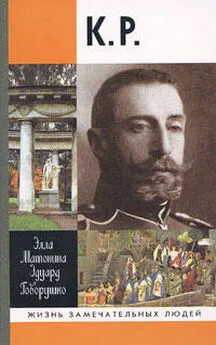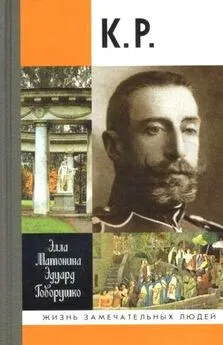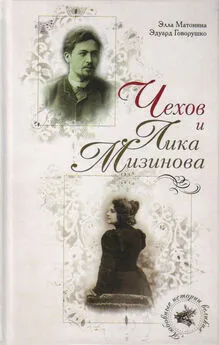Элла Матонина - Два романа в одном флаконе
- Название:Два романа в одном флаконе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00170-662-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Элла Матонина - Два романа в одном флаконе краткое содержание
Стиль Эллы Матониной наиболее близок к тыняновскому. Герои ее книг – личности известные, исторические, но они меньше всего походят на монументы из школьных учебников. Это живые люди, со своими чувствами и страстями, в полной мере выражающие приметы своей эпохи. Так, в романе о Лике Мизиновой, многолетней подруге Антона Чехова, его музе, прообразе знаменитой Чайки, за отношениями двух умных и талантливых людей следить так же интересно, как и за временем расцвета русского театра, сначала в России, а потом в эмиграции. Русская культура всегда обогащала мировую, но и много черпала из неё.
Этой теме посвящен и роман «Сумка с золотыми вензелями», в котором рассказывается история двух сирот полковника наполеоновской армии, погибшего в России в 1812 году. Благодаря участию императора Александра I и его супруги мальчик и девочка Ла-Гранж получили достойное образование и остались жить в России, заложив славную династию русских офицеров и художников.
Два романа в одном флаконе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Что ж, Лидуша, на чужой роток не накинешь платок. Хоть были рядом с ним люди умные, но они чего-то не поняли. Он по натуре сдержан, скрытен, самолюбив и насмешлив, умеет прежде всего во всем найти сторону негативно-смешную, но никогда не лишит ее человечности. Наверное, не в его натуре бухнуться на колени посреди самой большой итальянской площади и объясниться в любви всему Средиземноморью. Я бы это мог, но я, как ты сказала, артист, для публики себя не пожалею, эмоции не сдержу. А он… Помнишь, у него есть повесть «Три года». Там герой говорит… помню приблизительно… дома тебе покажу: «У меня то мрачное настроение, то безразличное. Я робок, неуверен в себе, у меня трусливая совесть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать ее господином. Я боюсь за каждый свой шаг, а за границей я хожу как затравленный, виноватый, потому что я родился от затравленной матери, с детства был забит и замучен». Тебе не кажется, что это он о себе и «это почти о себе» при мнительности и гордости обострилось в том путешествии в присутствии петербургского аристократа Мережковского, сына действительного статского советника, служившего в дворцовом ведомстве. Я слышал, что, в представлении петербуржцев, таганрогское происхождение Чехова долго окрашивало его облик, хотя он был заменит и уже давно жил в Москве…
– Десять лет. Да что там! Письма ему даже с Сахалина слали в Таганрог, а оттуда уже в Москву. Он сердился и никак не мог взять этого в толк. Но, Саша! Саша! Не знаю, чего в тебе больше – чутья или фантазии? Ты все угадал. Когда-нибудь это станет всем известно, а тебе скажу сейчас. Он был очарован Италией, потрясен. В душе стоял перед ней на коленях, перед ее красотой и культурой. Совсем как ты перед Чайковским. Только скрытно. Он писал об этом родным. Писал, что замечательнее Венеции городов он не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Его трогало, что великих художников хоронят, как великих королей, в церквах, что церкви дают приют статуям и картинам, что здесь не презирают искусство, как у нас. Он называл Венецию голубоглазой, архитектуру грациозной и легкой, гондолы птицеподобными. «Самое лучшее время в Венеции – это вечер, – писал он. – Во-первых, звезды, во-вторых, длинные каналы, в которых отражаются огни и звезды, в-третьих – гондолы, гондолы и гондолы; когда темно, они кажутся живыми. В-четвертых, хочется плакать, потому что со всех концов слышится музыка и превосходное пение. Вот плывет гондола, увешанная разноцветными фонариками; света достаточно, чтобы разглядеть контрабас, гитару, мандолину, скрипку… совсем опера».
«Италия, – писал он Маше, – не говоря уже о природе ее и тепле, когда все от неба до земли залито солнцем, единственная страна, где убеждаешься, что искусство в самом деле есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость».
– Лида, это верно и серьезно. Я не мог сформулировать, но таким убеждением только и жив в своей работе адской.
– Возможно, Суворин и указал ему на собор Святого Марка, на домик Дездемоны, Дворец дожей, на усыпальницы Кановы и Тициана, но дух Италии, где с непривычки можно умереть, он почувствовал не меньше, чем эрудит Мережковский, а может, и больше, потому что Мережковский и Гиппиус всегда страдали пониженным чувством жизни. Они медлительностью и тяжестью были сродни застывшим формам прошлого. И восторгались лишь ими. А Чехову слышался еще звон «живущего» дня: голуби, звонки, мелодичные голоса итальянок; его смутило, что домик Дездемоны сдают в наем, ему не нравилась рулеточная роскошь, она опошляла природу, шум моря, луну. Он чувствовал и видел отчетливо и резко пульсирующую жизнь, а не только замершую в своей красоте.
Вот так, Саша, все было на самом деле. И только раз он приоткрыл свою обиду. Суворин ехал опять в Италию, и он сказал ему: «Поклонитесь Италии. Я ее горячо люблю, хотя вы и говорили Григоровичу, будто я лег на площади Святого Марка и сказал: «Хорошо бы у нас в Московской губернии на травке полежать». А меня Ломбардия поразила так, что мне кажется, что я помню каждое дерево, а Венецию вижу, закрывши глаза». Он и перед смертью хотел увидеть Италию…
Наверное, он видел и ту картину из Дворца дожей, на которой изображено 10 тысяч человеческих фигур. И тот портрет, который замазан черной краской в виде креста, как любят говорить искусствоведы, своеобразное «momento mori», портрет Марино Фальери. Черная дыра на живописной стене «была чревата сюжетом».
И он захотел написать пьесу. Осенью, после Италии, Мережковский спросил его: «Написали пьесу из венецианской жизни Марино Фальери?»
– Марино Фальери? Кто он? Чехов на венецианскую тему хотел написать пьесу? Это после русской провинции? Все пять его пьес о ней.
– Я расскажу тебе о Фальери.
Санин поцеловал жену на пороге ее комнаты. И вдруг она спросила:
– Саша, почему ты не поставил ни одной пьесы Чехова? Ведь он тебя просил не однажды?
– А почему ты не написала о нем ни строчки воспоминаний? Пожалуй, единственная из знавших его?
Они посмотрели друг на друга печально и отчужденно…
Глава 11
Сразу лечь спать она не могла. Воспоминания о поездке Чехова в Италию, о времени до и после нее были мучительны. Санину она многое недосказала, подозревая, что все-таки слухи московско-петербургские его не минули. Тогда издевались не только над тем, что писатель таганрогского происхождения не интересовался великим искусством, обсуждали его походы в дома терпимости, в то время как спутники бежали смотреть Колизей или другое чудо итальянской культуры. Во время прогулок он не пропускал ни одной проститутки, чтобы не спросить, сколько она стоит. А спутникам своим объяснял, что хочет знать, до чего дойдет дешевизна. Москва и Петербург терялись в догадках, повторяли друг другу: «Все в Колизей, а он… расспросил прислугу, какой здесь более всего славится дом терпимости, и поехал туда. И во всяком новом городе, в какой бы ни приезжал, он раньше всего ехал в такой дом!!!» Смеялись, осуждали и не осуждали, объясняли, что он сознательно эпатировал аристократов Мережковских, которые все о смысле бытия, а он им о селянке у Тестова с большой водкой; кто-то говорил, что он набирает материал для рассказов на кладбищах, в цирках, в публичных домах. Но во всем этом было какое-то недоброжелательство, особенно в Петербурге, где лучший друг Суворин распространял беззлобно слухи об импотенции известного писателя: мол, он сам мне об этом писал, вот и искал искусниц древней профессии в борделях.
Слухи, перья ощипанной курицы. Легко перемещаются по воздуху и падают в любую грязь. Перемешались и с московской. Слыша их, она нашла, как ей казалось, всему свое объяснение. После Сахалина, до поездки в Италию он все время хотел ее видеть. И они виделись. Их тянуло друг к другу. И она готова была поверить той фразе в его письме из Иркутска: «Я, должно быть, влюблен в Жамэ, так как она мне снилась».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: