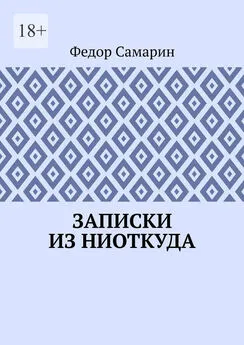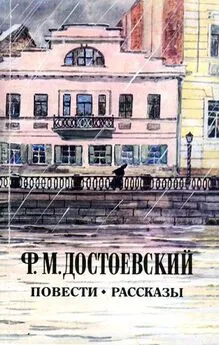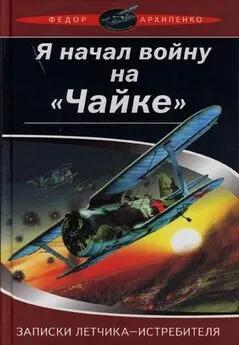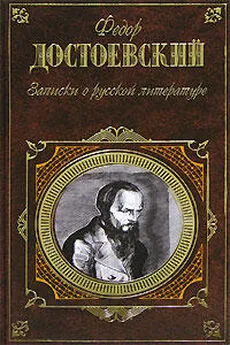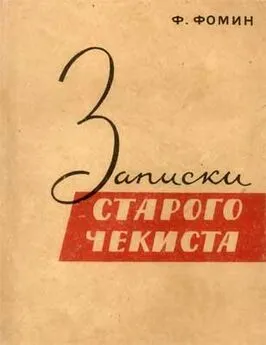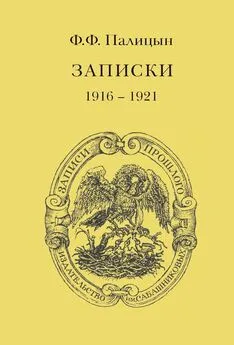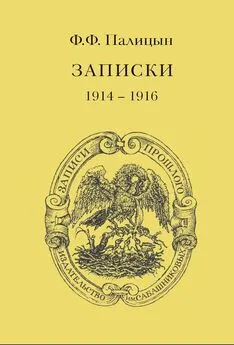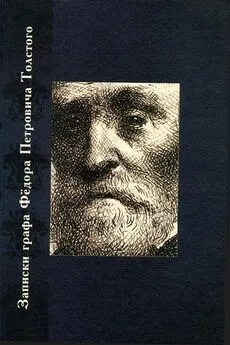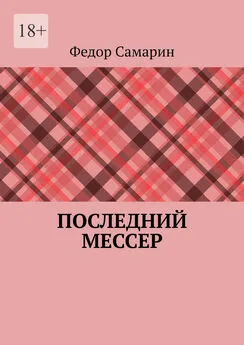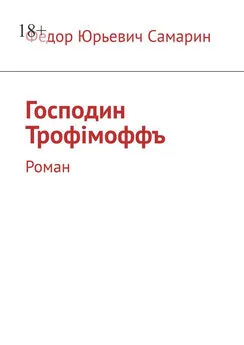Федор Самарин - Записки из ниоткуда
- Название:Записки из ниоткуда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005683083
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Самарин - Записки из ниоткуда краткое содержание
Записки из ниоткуда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Молча стояла Холгу на высокой круче, ветер трепал две белых ее косы и плащ из бобровых шкур. Речная гладь шевелилась, была живой, поблескивала, лоснилась – в воздухе стоял шелест: на берег хлынула рыжая масса.
– Новый зверь, – сказала Холгу и покачала головой.
– Новый, – сказали киси.
Целый день стояли они на высокой круче, целый день ветер трепал их косы, из-под земли проступила соль, и вышел из леса зверь, чтобы лизать ее, и прижались звери к ногам и бедрам Холгу, ибо очи у зверя покрылись льдом. Земля сотрясалась, и ноги слышали, как рыдает плоть земли далеко за рекой, далеко за лесом, там, куда издревле запрещено даже смотреть – там, где садится за край земли солнце. Оттуда извергло оно невиданных доселе тварей: с длинными лысыми хвостами, круглыми глазами и зубами, способными перегрызть камень.
Земля сотрясалась до восхода луны, и до восхода луны шелестели травы в лесу от молчаливого похода нового зверя.
Этого зверя решили назвать мерге, что означает «нельзя съесть». Когда приходило время решать, все киси и все, которых не называли никак, садились у входа в главный азыр и молчали. Молчали долго, до тех пор, пока кто-нибудь первым скажет какое-нибудь слово. Таков был обычай. Иногда молчали и день, и два, и неделю. Старики говорят, было дело – молчали две луны.
В этот раз слово сказала Холгу:
– Мерге.
– Мерге, мерге, – закивали головой киси.
Затем пошли в курутын, огороженный диким речным камнем.
Курутын всегда на четыре угла: в одном углу, от входа слева – веник из веток березы, в другом – от входа справа – веник из веток дуба, в других углах – чунча из бересты с водою и чунча из коры дуба с мёдом от диких пчёл. А в центре курутына – четыре камня. Четыре черных валуна.
Камни эти выросли из-под земли сами, потому что родила их дочь земли, великий первый торамдас – Торамда. Груди ее – холмы. Волосы ее – травы. Руки – лес. Язык – ручьи и ключи, а влагалище – река.
Разоблачилась Холгу, опустилась на четвереньки, и вошла в курутын так, как ходит в начале своей жизни всякий торамдас. Ибо для Торамды даже самый древний торамдас – будто еще не родившийся.
– Ой, Торамда, дай мне рыбы и меду! – взмолилась Холгу, – ой, дай мне все, и я тебе дам все, ой, чего надо тебе!
После этой молитвы три киси подтащили к входу в курутын столетнего сома, на спине которого росли береза, ольха и папоротник, и вспороли ему брюхо. Холгу разбросала внутренности на четыре угла, зажмурила глаза и задом выползла обратно: нельзя смотреть, как вкушает свою жертву Торамда.
А ночью Холгу сказала:
– Елдын торамдасар!»
(Из романа «Сказание о Холгу-воительнице» (П. А. Алпазов), стр. 9—10).
На том внятное, хотя и чудовищное изложение угадываемых событий, прерывается бесповоротно тоскливой серией компиляции неких не то диссертаций, не то монографий, а иногда донесений и мутных прозаических отрывков, извлечь из которых можно разве что общий смысл случившегося. Но привести их я обязан, хотя мне этого и не хочется.
ИЗ КНИГИ «БЕГСТВО МАХАЯНЫ, ВИДАВШЕГО ВСЁ» СЭРА ДАНАУЭЯ ОЛДРИДЖА, 1912 год, Ливерпуль.
Первые сведения о древних торамдасах относятся к 400-м годам до новой эры, когда Геродот в своей «Истории греко-персидских войн», рассказывая о древних народах и племенах Северного Причерноморья, в числе прочих упоминает неких даев, которые жили, «начиная от Каспийского моря».
По всей видимости, как на то указывает также и Страбон в своей «Географии», земли их тянулись от Урала в его среднем значении и до реки Аракс, то есть, до Сырдарьи. При этом жили они, по утверждению Геродота, «на болотах», которые образуют реки, и на островах, расположенных на этих болотах. Но несколько вдалеке от собственно Аракса, который, в свою очередь, по Геродоту, впадает на севере всеми своими устьями в море, а одним устьем – в Гирканский залив…
Маврикий Стратег в одной из утраченных своих записок, копия которой сохранилась в библиотеке Ватикана, сообщает о том, что торамдасы отличались высоким ростом и медлительностью, красотой и добродушием. Они, говорит он, имеют «волосы прямые и цвета стоялой соломы», «короткие носы и белые глаза», а царей не имеют, но всеми правят женщины, поэтому живут торамдасы подобно амазонкам. Они простодушны и не ведают лукавства, не знают денег, не знают числа больше 30, точно также и не известны им никакие меры и вес.
Некоторые афинские историки еще во времена Евсевия Памфила производили род торамдасов от одного из потерявшихся колен древних идумеян, предки которых по мужеской линии вначале были иеродулами в храмах Аполлона, но потом были захвачены в плен парфянами и выселены в дальние пределы Парфии, где впоследствии и затерялись.
Другие же выводят торамдасов из диких лесов, коими окружены пространства между Монголией и Манчжурией, усматривая в них потомство древних динлинов и смешавшихся с ними уйгуров, которые в начале времен были насельниками этих областей, а потом влились в гуннские орды и расселились по обе стороны Урала и вышли на берега Аракса.
Кое-какие сведения о торамдасах почерпнуты нами и в религиозной философии древней Индии.
Адепты древнейшего брахматизма смутно говорят нам о неком народе, который первым из всех начал искать путей к бегству вратами Луны и Солнца ради достижения бездонного Праджапати. Народ этот известен им под именем «даршан»: именно ему отводят главную роль в создании философии санкхьи, которая провозглашала постоянную множественность освобожденных душ как неких непроницаемых монад.
Великий учитель древних мистиков Махаяна Асанга видел в них Бодисаттву, восходящего от Земли к Земле, и указывал место рождения торамдасов, а именно – последний предел нирваны. При этом Асанга называет торамдасов другим именем: «аготрака», что значит «бесплодные», утверждая, что народ этот получился не в этом существовании, а в результате длинного ряда перевоплощений.
И до сих пор, по учению Махаяны Асанги, народ «аготрака» находится в монотонном движении бесконечных циклов, в состоянии вечного возвращения. И каждый новый период, который называется Махакальпа, у торамдасов наследует другому такому же периоду без какого-либо движения вперед.
Древние китайцы, равно как и святой Максим, считали торамдасов слугами палингенезов, слугами бессмертия смерти, сменой ритмов инь и янь, а индийцы – вдохом и выдохом Брахмы.
И, подобно тому, как вдох не знает, что он вдох, а выдох не знает, что он выдох, так и предки торамдасов, равно и потомки, не ведали ни смысла достижения бездонного Праджапати, ни вращения Махакальпы. Ибо сами они и были сутью этого вращения, находясь при этом как бы в состоянии менопаузы, подобно бабочкам.
Кое-что о торамдасах известно нам из армянских источников о монголах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: