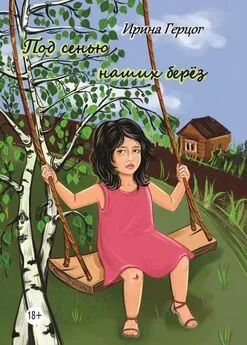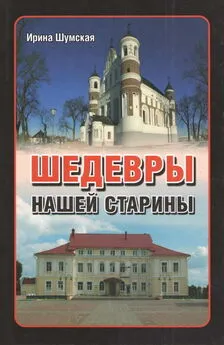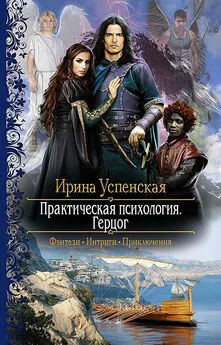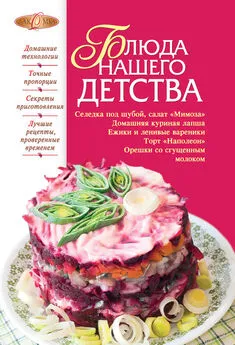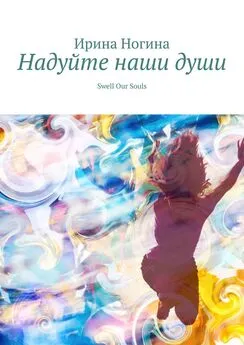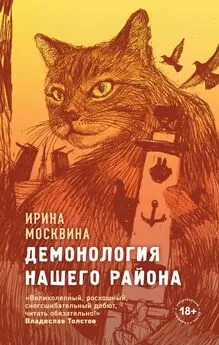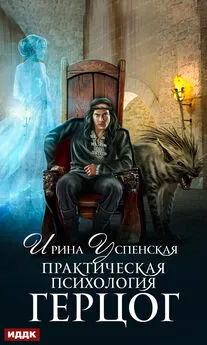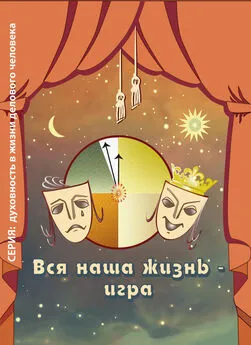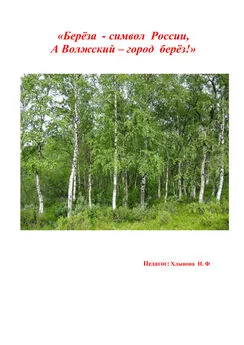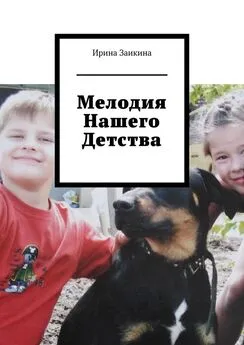Ирина Герцог - Под сенью наших берёз
- Название:Под сенью наших берёз
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:М.
- ISBN:978-5-00189-603-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Герцог - Под сенью наших берёз краткое содержание
История Киры – это пронзительное повествование о девочке и ее большой семье, которая разворачивается в 1970-е – 1980-е годы, когда страна переживает затянувшееся время духовного застоя, краха иллюзий и является, по сути, срезом жизни тех лет.
Кира растет, и на глазах читателя становится школьницей, старшеклассницей, студенткой. Детская дружба с соседским Ромкой, перерастающая в первую искреннюю горячую любовь, делает ее сильнее. Сможет ли Кира вырваться из трясины бесконечных семейных проблем и трудностей, домашнего насилия и удушающей атмосферы маленького провинциального городка и сохранить свое чувство? Под сенью посаженных в детстве берез жизнь испытывает юных героев романа и ставит их перед серьезным выбором…
Под сенью наших берёз - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– А что они делали, мальчишки? – спросила нетерпеливо Ангелина.
– Так просто болтались там в проулке, разговаривали, стругали какие-то деревяшки, сидели на скамейке, – рассказывала соседка.
– Ничего подозрительного не заметили? – продолжала Ангелина.
– Да нет. Мальчишки как мальчишки, видела их много раз. Деревья, конечно, загораживают обзор, но все одно – в прогалы, видно. Потом появились те долговязые, непутевые, и они все вместе ушли.
– Анна Сергеевна, а откуда те взрослые парни появились?
– Да шут их знает. Отвлеклась на минуту, а они уж там стоят, балбесы.
Сосед сбоку рассказал, что вышел в огород покурить после обеда и, к своему удивлению, увидел сквозь редкий штакетник, отделяющий его участок от соседкиного, известного дурной славой на всю округу Кривулева и его дружка, копошащихся на крыльце Дарьиного дома. Еще один стоял возле ворот во дворе.
– Говорю, эй, чего это вы это там делаете? – с воодушевлением рассказывал сосед. – Да вот, говорит, заходил к тетке Дарье, хотел узнать, не было ли от Валерки письма, как он там. Ладно, говорит, зайду, говорит, в другой раз. Не растерялся.
– Вы внушаете мне, что мой ребенок совершил преступление, ему навязываете мысль, что придется идти в колонию для несовершеннолетних, ни я, ни он не спим ночами. А оказывается, все просто, нужно только опросить всех соседей? Разве вы не должны были это сделать в первую очередь? – спросила Ангелина в кабинете капитана, силясь увидеть хоть какие-то эмоции на его лице. – Пенсионеры – народ бдительный, некоторые из них видели и сына с другом, и этих взрослых парней.
Она рассказала о разговоре с соседями.
– Вот и хорошо, что так обернулось. А сыну вашему впредь наука – не связываться с кем ни попадя. Полезно ему было испугаться, подумать бессонными ночами.
– Но почему вы не расспросили соседей? – не могла взять в толк Ангелина. – Так бы и пустили все на самотек?
– Собирался это сделать, и сделал бы. Дел по горло, просто не дошли руки, – ответил милиционер.
Просто не дошли руки… На кону жизнь ее сына, а у него просто не дошли руки. Пришлось участковому, несмотря на его так сильно занятые руки, а возможно, и ноги, пройтись по округе и опросить всех ближайших соседей по всей форме, по протоколу. Все встало на свои места.
Тетка Дарья не собиралась прощать Кривулева, который шлялся без дела, в то время как ее сын служил в армии, а эта наглая рожа вероломно воспользовалась их былым гостеприимством.
Поскольку за тунеядцем числились еще и приводы в милицию за драки в состоянии алкогольного опьянения, его осудили на два года с выплатой ущерба. Подельник, который принимал непосредственное участие в краже, получил один год в детской колонии, ему было семнадцать. Тех, что оставались во дворе, Толю и Кольку, поставили на учет в детской комнате милиции. Мама выдохнула оттого, что дело хотя бы не закончилось для ее сына колонией для несовершеннолетних, но остались удушающие волнение и боязнь за сына. Те двое, избежавшие наказания, так и норовили снова затянуть Толю в теперь уже обновившуюся компанию. Оставалось очень много нешуточных опасностей на пути подростка в переходном возрасте, за которым, по сути, и приглядеть некому. Участковый предостерегал о том же. Перед Ангелиной встал нелегкий выбор: либо пустить все на самотек, либо отправить Толю учиться в интернат. Сердце сжималось от обоих вариантов, но та чудовищная ситуация, в которой оказался ее старший ребенок и которая чуть не сломала его жизнь, на одной чаше весов перевешивала жалость, угрызения из-за того, что придется отрывать его от дома, терзания о правильности ее решения – на другой.
Одинокой многодетной матери предложили неплохой интернат с полным пансионом. Дилемма никак не хотела разрешиться сама собой, нужно было брать на себя ответственность, тяжесть которой женщина физически ощущала на себе. Но в конце концов боязнь за старшего сына и сына подрастающего, который скоро тоже вступит в «опасный возраст», взял верх над эмоциями. Братьев отправили вместе в закрытую школу с проживанием, с твердым распорядком и дисциплиной, со множеством кружков по интересам и так далее, за тридцать километров от города, от беды подальше, от тлетворного влияния старших подростков, неадекватных алкашей в округе. Родные, разумеется, могли навещать своих детей в любое время, и сыновья будут приезжать домой на каникулы. Страдания и слезы перед расставанием лились рекой. Очень не хотел уезжать из дома, от мамы, от сестер Володя. Хоть он и обожал старшего брата и хотел быть на него во всем похожим, и ходил за ним хвостом, и Толя был для него и другом, и даже в какой-то мере заменял ему отца, но ехать все равно не хотелось.
Их отец умер, когда ему было всего тридцать четыре года. Кира и не видела его никогда. Отец с мамой и тремя детьми: Толей, Наташей и Володей, которым было в ту пору восемь, семь и три года соответственно, – подались в Сибирь за лучшей жизнью. Государство сулило очень хорошие зарплаты, льготы, жилье тем, кто ехал осваивать целинные земли. За счет притока огромного количества людей страна пыталась решить обострившуюся в стране зерновую проблему.
Их встретили седая степь, простирающаяся до безбрежного горизонта, гулкий ветер, выплясывающий на этих бескрайних просторах, и доброжелательные сибиряки. В Новосибирской области, в совхозе им действительно дали добротное жилье в утепленном бараке на две семьи, маму устроили на должность заведующей детским садом, отца – машинистом на тепловозе. Ангелине очень хотелось начать жизнь с чистого листа, без свекрови и ее окриков, сварливых, скрипучих нравоучений. Она всегда была недовольна всем и вся. Молодым хотелось жить своей семьей, без отцовской сестры и ее мужа с детьми и вечных придирок. Ангелина задыхалась там, было одно желание – уйти из дома свекрови, убежать, но куда с тремя маленькими детьми она пойдет? О каком-то отдельном уголке, где бы свекруха их не доставала, даже мечтать не приходилось. Пора, пора было налаживать самостоятельную жизнь. К новому месту привыкли удивительно быстро, обзавелись друзьями и знакомыми, но Иван меньше пить не стал, исполнять свои обязательства перед семьей не торопился, как надеялась Ангелина, и мерзкую пьяную привычку истребить не пытался – бил ее не реже, чем дома.
Как так вышло, что кто-то, пусть даже ее собственный муж, начал поднимать на нее руку. «А Алексей смог бы так обходиться со мной?» – часто задавала она себе вопрос и никогда не могла даже вообразить его дерущимся, орущим на нее. Как же она позволила Ивану так с собой обращаться?
Ангелина приехала в город из деревни и по натуре своей была довольно бойкая, общительная, заводила в школе, лидер, можно сказать. Училась хорошо, по окончании десятого класса поступила в педагогический техникум в райцентре, проучилась осенние месяцы, половину зимы. До райцентра было километров десять хлябей, приходилось добираться пешком. Подводы, тракторы, на которых можно было бы подъехать, проезжали крайне редко. Жили, как и все в деревнях, бедно, тяжко. Единственные захудалые, коротенькие сапожки изношены до сухих, глубоких трещин по бокам, на пятках, а на подошве местами до дыр. Отец латал их как мог, но ветхая плохонькая кожа снова расползалась то там, то тут. Пока стояла осень, штопаная-перештопанная обувь хоть как-то выручала. С наступлением холодов даже шерстяные онучи не спасали от мороза при ходьбе на такие расстояния. Пальцы ног не раз были обморожены. Учеба закончилась, едва начавшись. Жили в основном натуральным хозяйством, но и того едва хватало только на очень скромное, без излишеств, питание. На продажу ничего не оставалось, в колхозах платили крохи, чаще расплачивались зерном, картошкой. Новую одежду, обувь покупать было просто не на что.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: