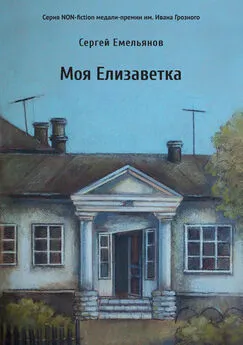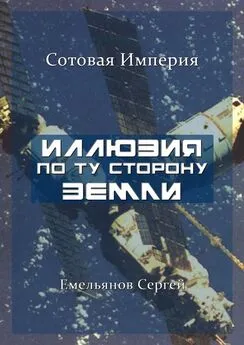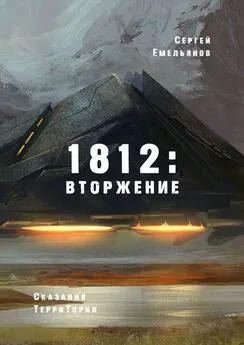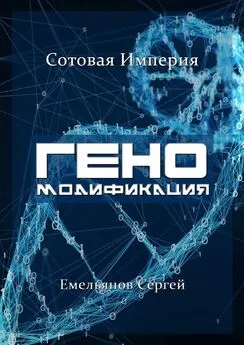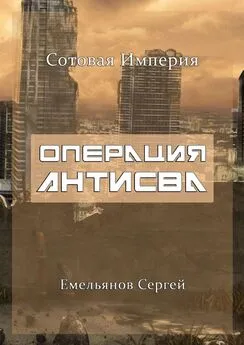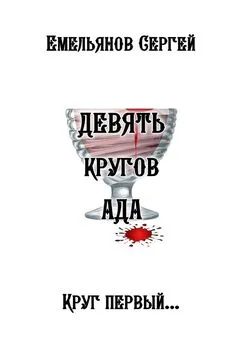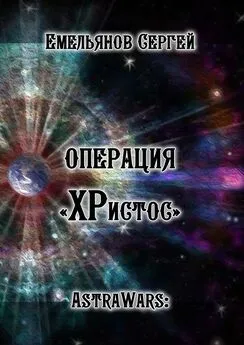Сергей Емельянов - Моя Елизаветка
- Название:Моя Елизаветка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907451-06-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Емельянов - Моя Елизаветка краткое содержание
Книга предназначена для тех, кто хочет непредвзято разобраться в том, как жилось советским людям в те, уже далекие, годы.
Моя Елизаветка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
За Грязной дорогой – собственно парк Покровское-Стрешнево, правильнее бы назвать его лесом: в нем нет ни скамеек, ни каких-либо указателей, только кусты и деревья. В лесу от Грязной дороги расходились аллеи – главная, липовая и еще несколько. Одна из них была настолько узкой, что ее кусты и деревья смыкали свои кроны почти над головой, образуя зеленый коридор. Отец любил возвращаться домой с работы именно по ней, поэтому мы с мамой называли ее папиной аллеей.
В разгар лета мы ходим в лес за ягодами: земляникой, малиной, иргой, которую елизаветинцы неправильно называли куманикой. Ближе к осени в лесу собираем грибы (моховики и опята), а потом и лесные орехи.
Елизаветка – это и не деревня, и не город. Было в нашей жизни много от деревенского уклада, но были и городские черты; одно слово – пригород, до асфальта час пешком по бездорожью. Когда я вырос и меня спрашивали, откуда я, то в шутку отвечал: «Я – дитя пригорода».
Вот в таком замечательном месте, на окраине Москвы, мы и зажили на законном основании в послевоенное время. Мы – это я, отец и мама. Был еще у меня и брат Андрей. Родился он в военное время, но умер, прожив всего несколько месяцев; говорили, что в родильном доме на Писцовой улице в Москве якобы действовали вредители, будто они специально заражали новорожденных мальчиков желтухой…
Чтобы попасть в нашу комнату, надо, поднявшись на крыльцо, пройти по коридору, потом повернуть направо на лестницу, которая делала два крутых поворота под прямым углом. Лестница вела на чердак, там в полумраке надо пройти еще пять-шесть метров и тогда уже можно открыть дверь и войти в нашу комнату.
Вот она, наша комната: восемнадцать квадратных метров минус полтора-два метра под печку. Стены окрашены накатом, на них бледный серебристый рисунок. Мебель собрана «с миру по нитке», в основном это выброшенные соседями вещи. Дощатый стол с подпиленными ножками, сколоченный еще солдатами, жившими на Елизаветке до пожара. Две кровати с горизонтальными пружинами, спинки – изогнутые железяки. Диван с просевшими пружинами, его не единожды перетягивали, последние разы я делал это сам. Этажерка с книгами. Умывальник с помойным ведром, рядом с ним кухонный стол-тумбочка для готовки, за печкой посудная полка со скошенными боковинами.
Над моей кроватью висит карта СССР. На ней выделяются два квадратика, это города с миллионным населением – Москва и Ленинград, остальные обозначены кружочками разного размера. Я люблю рассматривать эту карту и мечтать, когда городов-квадратиков будет больше.
Отголоски войны
Война не коснулась меня непосредственно, но сыграла определенную роль в моей судьбе и была частью моего детства.
Рядом с дачей Елизаветино расположена плотина Химкинского водохранилища. Плотина земляная, высота ее превышает тридцать метров; перепад высот между уровнем воды в водохранилище и уровнем воды в Москве-реке в центре столицы составляет сорок метров. В случае разрушения плотины на Москву обрушился бы колоссальный объем воды, который затопил бы значительную территорию города. Поэтому немцы осенью сорок первого года постоянно бомбили плотину, бомбы падали недалеко и от Елизаветки.
Был случай, когда мамина сестра Татьяна, для меня просто тетя Таня, пошла за водой под гору к роднику и попала под бомбежку. Мама рвалась пойти ей навстречу, но отец силой не пускал ее. Время шло, тетя Таня долго не возвращалась. Наконец она пришла, с дрожащими руками, в перепачканной одежде, вся в слезах от пережитого. Но, слава Богу, все обошлось.
Говоря о плотине Химкинского водохранилища, нельзя не сказать и о якобы существовавших планах советского командования взорвать ее в случае, если бы немцы взяли Москву. Взорвать, чтобы нанести урон врагу, не считаясь с возможными многочисленными жертвами гражданского населения. Более детальную информацию об этом можно найти в Интернете, однако неизвестно, насколько она достоверна.
К счастью, этого не произошло, и плотина Химкинского водохранилища не пострадала во время войны. О важности этого объекта для Москвы можно еще судить и потому, что после войны ее в течение нескольких лет охраняли военные. У въезда на плотину круглосуточно дежурили часовые, проход через нее был закрыт для гражданских лиц, пропускали только грузовики с заключенными, которых ежедневно возили на обязательные работы.
Память сохранила визуальные приметы войны времени моего детства. Помню вытянутые надувные сигары аэростатов, которые все называли «колбасой». Подразделение с этими «колбасами» находилось между нашей Елизаветкой и дачей Голубь, среди невысоких деревьев с красивыми серебристыми листьями.
Напротив школы № 212 через дорогу, в начале нынешней улицы Космодемьянских, посреди картофельного поля стояли зенитки. Потом их убрали, и на том месте появились многоэтажные жилые дома, в которых обитали некоторые мои одноклассники.
На улице и в магазинах встречались безногие инвалиды. Все их тело умещалось на маленьких дощечках с колесиками-подшипниками. Они быстро перемещались на них, отталкиваясь от земли специальными деревяшками. Считалось, что от постоянного толкания руки у них очень сильные и связываться с ними опасно.
Рядом с нашими домами были окопы; после войны они сильно осыпались и служили нам местом для игры в войну.
Были игры и поопаснее. В лесах под Москвой после войны еще оставались патроны и боеприпасы. Ребята с Елизаветки и других мест находили их и привозили в Москву. Особым шиком среди пацанов считалось бросать их в костер. Патроны рвались, и осколки разлетались вокруг. Одну девочку из нашего окружения убило; другая – моя соседка Нинка Петрова – получила ранения, но осталась жива.
Жизнь старшего поколения нашей семьи, разумеется, была связана с войной. Все мои взрослые родственники – мужчины – попали на фронт.
Два маминых брата – профессиональные военные Иван и Николай – прошли через всю войну, остались живы и даже не были ранены. Старший, Иван, служил в бронетанковых войсках и дослужился до звания полковника. Младший, Николай, капитан первого ранга, встретил войну в Ханко, откуда его на катере под обстрелом немецких самолетов эвакуировали в Ленинград. Там он провел бо́льшую часть войны, работая в управленческих структурах военно-морского флота по финансовой части.
Отец
Родился он в Арзамасе, учился в реальном училище, видимо, неплохо. Во всяком случае, в шахматы играл хорошо, конкурировал с сильнейшими игроками города. Однажды он даже играл с известным во всей дореволюционной России маэстро Дух-Хотимирским. И, несмотря на то что проиграл, заслужил одобрение мастера.
Получать высшее образование поехал в Нижний Новгород; было это в том самом 1917 году. Затем с отступающими частями белой армии перебрался в Томск, где продолжил учебу в политехническом институте. Когда город взяли «красные», в институт пришли «комиссары в пыльных шлемах» и потребовали, чтобы студенты показали им свои руки. Если руки были рабочие, грязные и мозолистые, то таким говорили: «Ты, братишка, наш, рабоче-крестьянский, учись дальше, нам специалисты нужны». Если же руки были чистые, как у отца, таким говорили: «Катись отсюда, пока цел». Хорошо еще, что дали на руки справку об окончании трех курсов института. Она и заменяла ему всю жизнь документ об образовании. В анкетах в графе «образование» писал: «неоконченное высшее» и прикладывал эту справку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: