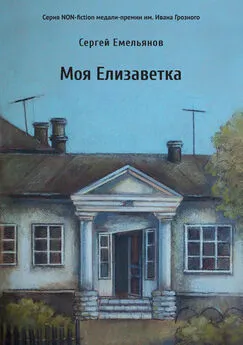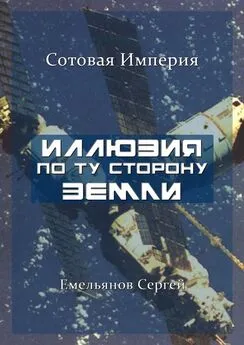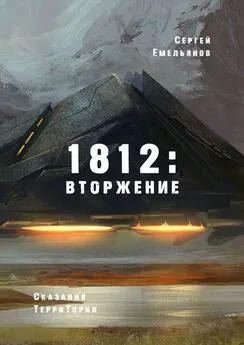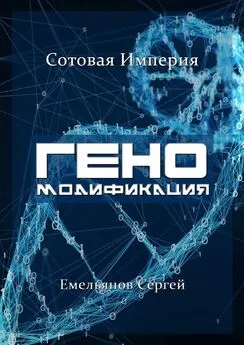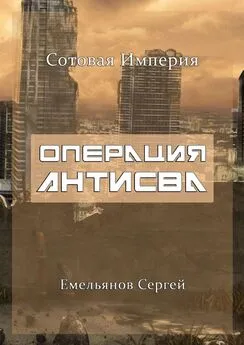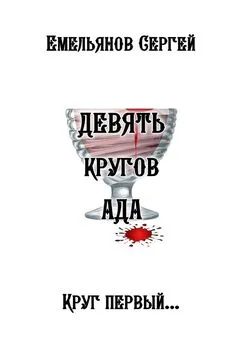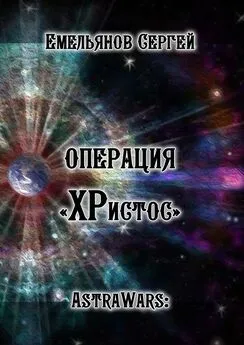Сергей Емельянов - Моя Елизаветка
- Название:Моя Елизаветка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907451-06-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Емельянов - Моя Елизаветка краткое содержание
Книга предназначена для тех, кто хочет непредвзято разобраться в том, как жилось советским людям в те, уже далекие, годы.
Моя Елизаветка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Лошадей он полюбил с детства. И немудрено. Его отец служил управляющим конюшней у одного богатого предпринимателя. Поэтому лучшими друзьями маленького Лёни были лошади, он сызмальства полюбил это красивое и сильное животное. Чувство это он пронес через всю жизнь.
К женщинам он был почти равнодушен. Полушутя, полусерьезно говорил, что не может по-настоящему любить женщин, так как женское тело практически всегда скрыто под одеждой, другое дело – лошади, у них все на виду.
Бывать на ипподроме он пристрастился в конце тридцатых годов. Один сослуживец порекомендовал ему это место, сказав, что здесь можно увидеть увлекательное зрелище и сбросить психологическую нагрузку, которую всем служащим Страны Советов приходилось испытывать в то время. Совет этот совпал с его детскими воспоминаниями, и скоро он стал одним из завсегдатаев ипподрома.
Деньги были для него не главным, хотя он и делал ставки. Выигрывал он очень редко, чаще проигрывал, иногда и крупные суммы.
Привлекала его вся обстановка ипподрома: и вид беговой дорожки, и шум трибуны, нарастающий при приближении лошадей к финишу, и запах, доносившийся со стороны конюшен, и звук гонга, запускающего заезд, ну и, конечно, сами лошади. Он знал их клички, родословные знаменитых лошадей, мог по кличке лошади догадаться, кто ее родители, так как ему были известны правила, по которым даются клички новорожденным жеребятам.
Знаком он был и с наездниками. Особенно ему нравился один из них, который всегда выступал в форме, в которой преобладали желтый и зеленый цвета. Отец называл его «яичницей с луком» и всегда старался ставить на него.
На ипподроме он испытывал настоящее наслаждение. Когда лошади уходили со старта, он забывал все, тело его приподнималось «на цыпочках» и вытягивалось вперед, руки, согнутые в локтях, начинали дрожать.
После ухода на пенсию он тяжело заболел и вынужден был находиться дома. В то время мама, которая всю жизнь боролась с его тайной страстью, чтобы уменьшить страдания мужа, стала специально ездить на ипподром, покупать там и привозить ему программки заездов. И он всматривался в эти программки, производил какие-то вычисления и понарошку делал ставки, не зная, конечно, результата заездов.
Умер он в 1969 году от онкологического заболевания, не дожив трех месяцев до семидесятилетия.
Брат мой – ополченец
Ни у меня, ни у него не было родных братьев и сестер, не было и двоюродных. Так что у когда-то многочисленной семьи Зориных в советское время народились только мы двое, я и он – сын маминого брата Николая. И сам он тоже был назван Николаем, но звали его в семье Коляном. Так что были мы двоюродными братьями, но никого ближе у нас не было.
Мы были знакомы, хотя он на 14 лет старше меня. В сорок первом году он бывал у нас дома, говорят, любил играть со мной, годовалым, разговаривал, дарил мне игрушки. Долгие годы я хранил его подарок – два игрушечных автомобильчика: один – цельнолитая легковушка из серебристого металла с крутящимися колесиками; второй – грузовичок-самосвал из ярких цветных деталюшек, у которого и колесики крутились, и дверцы кабины водителя открывались, и кузов поднимался, как у настоящего самосвала. Жаль, что сейчас их у меня нет: затерялись при многочисленных переездах.
Рос он быстро, занимался спортом, выглядел старше своих лет. В семейном архиве сохранилась фотография, где он снят вместе со своими родителями на берегу моря: лежат они на гальке под южным солнцем, улыбаются. Как он учился, я не знаю, но, помню, говорили, что рос он общительным, бойким мальчиком, настоящим верным ленинцем, как тогда говорили, был пионером, потом вступил в комсомол.
Что побудило его вступить в народное ополчение, я не знаю, но факт остается фактом: летом 1941 года Николай Николаевич Зорин, 1926 года рождения, добровольно, действительно добровольно, вступил в народное ополчение. Матери он не сказал о своем решении, а отец, кадровый военный военно-морского флота, был далеко – держал оборону на подступах к Ленинграду, на полуострове Ханко.
Как его, пятнадцатилетнего подростка, взяли в ополчение, непонятно, ведь, согласно Постановлению ГКО от 4 июля 1941 года, ополчение формировалось из мужчин и женщин в возрасте от семнадцати до пятидесяти пяти лет. То ли он сам где-то приписал себе два года, то ли время было такое, что на эти «мелочи» внимания не обращали.
Судя по всему, Колян попал в 8-ю дивизию народного ополчения (ДНО), ее еще называли Краснопресненской – по месту формирования. Дивизия создавалась в спешном порядке. Всего за несколько дней июля около шести тысяч мирных жителей столицы стали бойцами 8-й дивизии народного ополчения Краснопресненского района. Сохранилось маленькое фото Коляна, такие обычно клеят на документы. На ней он в военной форме, но какой-то странной. Шинель размера на два больше, чем надо, он в ней прямо-таки утонул; шапка-буденовка с остроконечным верхом, подобные шапки использовала Красная армия в Гражданскую войну. Лицо детское, но смотрит серьезно, слегка нахмурив брови. Создается впечатление, как будто ребенка одели в военную форму для игры в «Зарницу».
Это все, что более-менее достоверно известно о личности брата. Дальше его судьба, как и еще нескольких тысяч ополченцев, теряет черты индивидуальности и оказывается неразрывно связанной с судьбой Краснопресненской дивизии. А судьба эта оказалась короткой и трагичной.
Уже 10 июля дивизия была передислоцирована из Москвы в область – в район нынешнего Красногорска. В течение июля шло ее доукомплектование за счет призывников и частично кадровых военных. Было сформировано три стрелковых полка, один – артиллерийский и еще несколько вспомогательных подразделений. Командиром дивизии был назначен комбриг Даниил Прокофьевич Скрипников, Георгиевский кавалер, с большим опытом участия в боевых операциях во время Первой мировой и особенно Гражданской войн.
В сентябре дивизия заняла линию обороны вдоль восточного берега Днепра, где она с трудом сдерживала натиск врага, неся потери, особенно от ежедневных бомбежек вражеской авиации.
29 сентября немецкое командование приступило к операции «Тайфун», противостоять которой в тот момент Красная армия не могла: противник имел на этом участке фронта двукратное превосходство в танках и авиации.
Тяжело читать, что было дальше.
В результате боев в первых числах октября погибло более половины ополченцев. Погиб и командир дивизии Д. П. Скрипников. Произошло то, что военные называют котлом, а проще говоря, наши войска попали в окружение. Часть бойцов ушла к партизанам, кто-то прятался по деревням, многие попали в плен, и только единицам удалось перейти линию фронта и вернуться к своим.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: