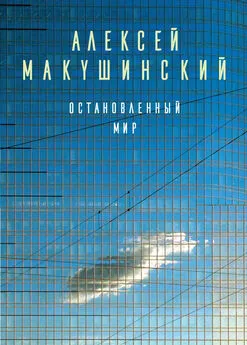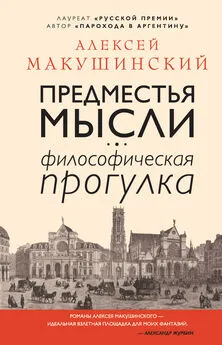Алексей Макушинский - Один человек
- Название:Один человек
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-04-156616-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Макушинский - Один человек краткое содержание
Один человек - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С тех пор его еще чаще объявляли законченным (или готовым закончиться – завтра утром, вечером в пятницу). Может быть, время вообще имеет свойство – заканчиваться? Оно длится – и оно же непрерывно заканчивается. И это тоже была его, Ясова, мысль; но где, когда он говорил это? Точно не на тех давних лекциях. Он это говорил, я уверен; я помню его слова; помню голос; помню его интонацию (часто грустную, часто насмешливую, иногда удивленную); но все остальное, все, что вокруг этих слов, расплывается; все, увы, исчезает в смутности прошлого, недостоверности воспоминаний, как вот эти машины, которые мы обгоняем на нашем рыкающем, аки лев, «Астон Мартине», обгоняем так лихо, что уже ни ты, ни я, ни мы оба (говорил я Жижи) не знаем (ведь уже не знаем, не правда ли?), кто сидел в белом «Опеле», промелькнувшем в правом ряду всего-то мгновенье назад, хорошо, минуту назад, и кто сидел в другом, бордовом «Опеле» (допотопном подвиде «Опелей», называемом, если я не ошибаюсь, «Омегой»; один мой приятель ездил на таком в конце девяностых) – дядька в шляпе и еще кто? – или какой был номер, какой страны или какого германского города – Мюнхена (M), или, например, Штуттгарта (S) – у громадного грузовика с ярко-синей кабиной и ядовито-желтою фурою, в грязных подтеках, с надписью Intelligent Logistics по всему борту, или у фиолетового, еще более громадного грузовика с бело-тоже-фиолетовой невеселой коровой и Альпами на горизонте – рекламой шоколада Milka – а мы-то любим Lindt , ясное дело, – и кто за кем ехал, корова Milka за Хитроумной Логистикой или, наоборот, Логистика за Хитроумной Коровой . Время (говорил Яс) само по себе имеет свойство – заканчиваться. Не потому ли (он говорил) так часто провозглашают конец чего-нибудь: конец эпохи, или конец истории, или конец искусства, или конец, к примеру, романа? И это полная чепуха: история продолжается, искусство продолжается, романы пишут по-прежнему; и вместе с тем в этом есть тайная правда: время умирает, мир всегда готов рухнуть. Он не рушится – но он готов рухнуть. Иногда кажется, что он этого хочет. А мы могли бы заехать сейчас во Франкфурт (покуда музеи не закрылись, мир не рухнул, время не умерло), посмотреть на «Луккскую (в самом деле) мадонну» все того же ван Эйка (такую отрешенную, такую загадочную), постоять перед Вермееровым «Географом» (всегда напоминавшим мне Декарта), перед которым мы так долго стояли с Ясом, много позже, теперь уже очень давно. Черт с ним, с Франкфуртом, едем дальше, мимо Висбадена (черт и с ним) через Рейн, не заезжая в Майнц, вдоль Рейна, по автостраде. Как я люблю эти коричневые леса ранней весны, эту внезапную зелень елок, вкрапленную в серость холмов. Да, мы здесь ехали с Ясом, конечно, в 1995 году. Он прилетел ко мне в Мюнхен, и мы поехали с ним вот так же, как мы теперь едем, через Нюрнберг, и Вюрцбург, и Франкфурт, и после вдоль Рейна – и затем не так, как мы поедем на этот раз, спустя четверть (боже мой!) века. Мы-то поедем в Бельгию, то есть мы прежде всего заедем в Бернкастель-Кус, на родину Николая Кузанского, где мы, нет, тогда с ним не побывали, хотя это он, Яс (тоже он), мне рассказал когда-то (в мои шестнадцать или семнадцать) о совпадении противоположностей, об ученом неведении; оттуда поедем в Льеж, потом в Гент; а ему нужно было (или просто хотелось?) тогда (в 1995 году; в мои уже тридцать два, его почти пятьдесят) в Амстердам, где, впрочем, он бывал и до этого, любил бывать, где я сам впервые тогда оказался. А между прочим, тогда шенгенских виз еще не было, или только они появлялись, или только готовились появиться, и, во всяком случае, никакого права не было ни у него, ни у меня ехать ни в какой Амстердам, и разумеется, никакого «Астон Мартина» не было у меня и в заводе, а был маленький, тоже очень красный «Фольксваген Гольф», впрочем, уже новенький, хорошенький, быстренький (предыдущий, мой первый автомобильчик, еще был куплен за три тысячи марок и имел прелестную привычку ломаться в самых неожиданных местах в самый неподходящий момент), и уж точно не приходило мне в голову, что через (боже мой!) четверть века, когда самого Яса давно уже не будет под этим (облачным, но все-таки светящимся) небом, на этой (с ее холмами и лесами) земле, я буду ехать здесь вместе с Жижи, моей любимой, вспоминая, вернее пытаясь вспомнить что-то такое давнее, не четвертью, но уже почти половиной (еще не совсем половиной!) века отделенное от меня теперешнего, уже (скажем честно) стареющего, что-то такое давнее, дальнее, чего как будто и не было никогда, но что ведь все же когда-то было. Мне было шестнадцать, потом семнадцать лет, я был прыщавый, патлатый мальчишка, сперва старшеклассник, потом первокурсник, и нет, ни малейшего представления, ни намека на представление я не имею теперь, как, и каким образом, и почему я впервые оказался у него дома, в таком доме, где я даже не подозревал тогда, что люди живут, и где меня долго допрашивала лифтерша, кто я такой и как посмел сюда заявиться; в новом, по тогдашнему времени, но в окружении старых, лучших московских домов, возведенном Софьей Власьевной для своих верных слуг доме; в прекрасной близости от всего – от Никитских ворот, от Тверского бульвара, от Бронных улиц, от Патриарших прудов.
Не сердись, Жижи, но, мне кажется, ничего кроме бюста Тамары Сергеевны, Ясовой жены, я в тот первый визит не увидел, не разглядел. У нее был бюст какой-то прямо государственный, да и сама она была державная дама. Она в комнату не входила – вплывала. С вельможной ласковостью спросила меня о моих родителях; получив ответ, с ее точки зрения, по-видимому, удовлетворительный, снизошла до вопроса о том, куда я собираюсь поступать (или уже поступил ); ответ тоже одобрила. На ней был черный свитер «с горлом» (о, вот это я помню, еще бы!); был, на свитере, на самом бюсте, золотой, подозреваю, что очень драгоценный, кулон. Кулон болтался и никак не мог найти себе места на свитере, падая то с Эвереста, то с Джомолунгмы, в общем, не справляясь с такими высотами, такими вершинами; свитер же, молодец, изо всех сил подчеркивал и сам бюст, и под ним намечавшийся, в ту пору еще только начинавший намечаться живот. И нет, нет, конечно, не получалось у меня, как в свою очередь я ни старался, отвести взгляд от этого кулона, этого свитера (и Яс это, разумеется, видел, глаза его играли усмешкой). Что до обстановки, то обстановка была музейная. Это было сплошное красное дерево, сплошная карельская береза, сплошные темные картины в сплошных темных рамах. Очень много было зеркал, с подобающей патиной. Две дочки, примерно десятилетние (одной, допустим, одиннадцать; другой, скажем, девять), явились мне как часть обстановки; промелькнули; исчезли. Я потом хорошо знал обеих. Они теперь – где? Они теперь обе, если я правильно понимаю, в Лос-Анджелесе. У обеих были его, Ясовы, черно-агатовые глаза. У Тамары Сергеевны глаза были зеленые, для такой державной дамы, докторши всех наук и профессорши очень некислых щей, пожалуй, даже слишком зеленые. Она только что вернулась из Эквадора с делегацией ЦК, ЦИКа, ЦИПЦИПа, ЦАПЦАРАПа, Учпрофсовета. Правда из Эквадора? Или из какой-то другой страны, не менее экзотической, из Экзодора, из Эквазота. Эквазот прекрасен, и Экзодор прекрасен не менее, но она предпочитает Перу. С делегацией ЦАРАПЦАПЦАПа она летит в Перу в августе. А оттуда летит в Аргентину. К Ясу, мне показалось, все это (и карельская береза, и патина, и Перуантина) не имело никакого отношения. То есть совсем никакого, ни малейшего. Просто он там сидел, в антикварном кресле, чуть-чуть смахивавшем на трон, с львиными мордами на резной темно-красной спинке и темно-красных же подлокотниках (каждая со своей гривой и намеком на улыбку в очерке разинутой пасти), но мог бы (я подумал; или мне теперь думается, что так я тогда подумал) вдруг встать и выйти; ЦАРАПЦАРАРАП отлично обошелся бы без него.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

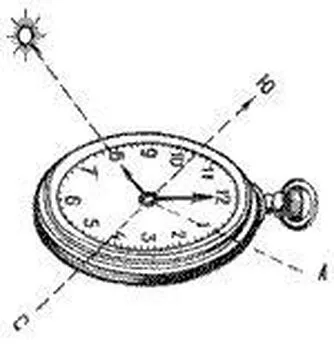
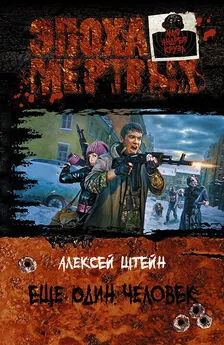
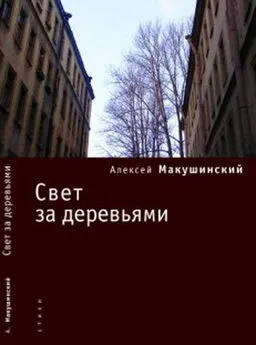
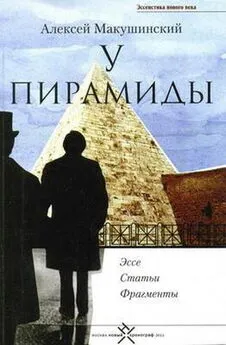

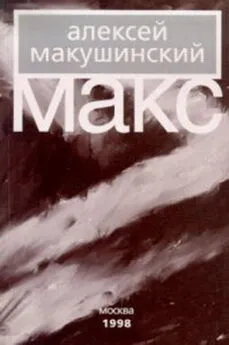
![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/1068510/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk.webp)