Михаил Кураев - В зеркале Невы
- Название:В зеркале Невы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-4311-0089-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Кураев - В зеркале Невы краткое содержание
В зеркале Невы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на значительную разницу в возрасте, вскоре после моего появления на студии он заметил меня и, как человек крайне сдержанный в проявлении искренних чувств, сумел без объяснений и признаний сообщить мне уверенность в своей симпатии и доверии.
Из долгой жизни на киностудии я вспоминаю прежде всего этого, влюблявшего в себя целые курсы студентов человека, которому судьба велела быть многие годы близким другом и душевной опорой Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Так уж случилось, что незаменимым стал этот человек и для меня.
Когда студийные клуши, поднаторевшие в высиживании талантов, морщили носы при моем имени и упражнялись в язвительности, обсуждая мою персону, явно непригодную для высиживания, Исаак Давидович, заткнувший за пояс самого Аристотеля своим девизом: «Платон мне в тысячу раз дороже любой вашей истины!» – перед лицом свирепых коллег, а подчас и строгой, но справедливой милиции всегда был на моей стороне.
Он был одним из немногих, кому я показывал свои тайные упражнения в сочинительстве. Тайными они были не потому, что несли крамолу, обличение властей и подкоп под основы, тайными они были от пережитого стыда после трагических попыток прыгнуть в коляску Чехова и в собачью упряжку «Джек Лондона».
Почему, служа на киностудии, я предавался письменным упражнениям в повествовательных жанрах?
Объяснить это очень просто. В кино слово пребывает в униженном, подсобном, попранном состоянии. Сценарий чаще всего – поле для бесконтрольного и ненаказуемого выкаблучивания самовыражающихся кино-реже-ссеров. [1] Зубовный скрежет несостоявшегося кино-реже-ссера. – М. К.
Сценарий – смертник, это одноразовый… ну, скажем, шприц, в чьи руки он попал, для каких целей использован, получилось, не получилось – «Прощай, дружище!» – в лучшем случае ты принесешь моей жене постановочные, а то придется обойтись и без них. «Страсти по Сократу», мой последний (надеюсь, последний в жизни) сценарий, дитя давней и нежной любви к античности, на три четверти присвоенный соавтором, не написавшим ни единой строчки, с головы до ног перекроенный, изувеченный, обессмысленный режиссером, преданный друзьями-редакторами, я отрекся от тебя, я лишил тебя своего отцовского имени в титрах!.. Прощай!
Как сценарист я даже получал призы, побеждал на закрытых и открытых конкурсах, сподобился высокой чести, о которой грезят многие сценаристы, печатался в альманахе «Киносценарии». Коллеги на студии морщили носы, фыркали, обсуждали, осуждали, а Исаак Давидович с пафосом римского сенатора возглашал: «Михайло Николаевич богатырь и гений чистой красоты!» – и находил в моих сочинениях обязательно какую-нибудь молекулу, неоспоримо подтверждавшую его еретическую мысль. «Уж Пушкина вы, Исаак Давидович, все-таки зря приплели…» – ускоряли его студийные эрудиты. «При чем здесь Пушкин? Он «гения чистой красоты» у Жуковского Василия Андреевича одолжил…» – как издатель Жуковского Гликман знал его особенно тонко.
Я не помню, какое из своих коротеньких, но доведенных до конца сочиненьиц первым показал Исааку Давидовичу. Что показал, не помню, запомнил отзыв: «…Читаю и вижу тень… Тень от бороды Достоевского… А потом и сама борода показалась! Я поздравляю вас, мой милый друг, мой нежный друг, Михайло Николаич! По-моему, это хорошо». Для меня услышать это, как оказалось, было крайне важно, вовсе не для того, чтобы бежать к кому-то, кого-то просить, куда-то пристраивать. Амбиций на публикации не было, но было оправдание, для меня вполне достаточное, моим потаенным занятиям.
Днем я убивал слово на киностудии, а дома, по большей части ночью, я пытался слово оживить в его чести и достоинстве.
Слова для меня обладали магической притягательностью, я, быть может, чувствовал себя виноватым перед ними.
Все начиналось со слова.
Услышал где-то фамилию – Сальвентантор! Как горьковский босяк любовался словом «сикамбр», я возился с этим переливчатым, протяжным, с пританцовочкой в конце словом. Оно само по себе казалось мне уже произведением искусства. Нужна оправа! Ну как же его преподнести? Сальвентантор – слово переливается как шерсть на сенбернаре. Самое лучшее, если это слово станет фамилией солдата. Не худо! Солдат – Сальвентантор, почти орудие, какое-то изысканное средство борьбы. Не худо! А солдат должен быть какой-то мимолетный. Слога в слове проносятся, как вагоны воинского эшелона. Так тому и быть. «Записки рядового срочной службы Сальвентантора». Остается к этому заголовку приделать текст. И текст пошел: «Земля, где расположена наша часть, впрочем, как и сам полк, по моему глубокому убеждению, не имеют никакого права на внимание современников. Командование, разделяя мою точку зрения, обнесло нас колючей проволокой, и в соответствии с Уставом гарнизонной службы…» О том, что пишется история предательства, мелкого и вовсе необязательного, об этом не думаешь, историй в голове полно, выдумывать не надо, лишь бы слова, выпущенные на волю, чувствовали себя в твоем тексте как дома, а главное – знать, что ни один редактор, ни один режиссер, никто на свете не сможет их ни изнасиловать, ни покалечить, ни убить.
«Записки Сальвентантора», еще не дописанные, я показал Игнатию Дворецкому, с которым тоже дружил, испытывая к этому великолепному человеку симпатию с первых же слов при знакомстве. Это было в пору «позднего реабилитанса», я знал, что он был в лагерях, и что-то сочувственное сказал по этому поводу. «Вор, к политике отношения не имею», – резко сказал Дворецкий, пресекая всяческие сочувствия. Его прямота, честность и отвращение к любому позерству были необычайно притягательны.
– Миша, вы должны писать. Это интересно. Дописывайте и покажите.
Сколько раз говорил мне это Игнат Моисеевич? Раза три-четыре, не меньше, а я показывал начала новых упражнений, бросая прежние, ничего не доводя до конца. Истинный дилетантизм! И все-таки поощрение человека, выращивавшего на моих глазах из безвестной молодежи отличных драматургов, было для меня стимулом в сочинительских занятиях.
Где-то году в 64–65-м в голове появились замечательные слова: «Игоря Ивановича Дикштейна покидал сон!» Эти слова, я понимаю, были замечательными только для меня, но единомышленники мне не были нужны. Слова эти были недосягаемы, недоступны для кинематографического насилия. Разве кому-нибудь можно было объяснить мою радость! «Игоря Ивановича Дикштейна покидал сон!» На экране человек может проснуться, может, изображая спящего, пошевелиться, и все! И не поймешь, что перед тобой Дикштейн, но почему-то «Иванович», и что он не просто так просыпается, а его, видите ли, сон покидает! Чтобы сохранить эти милые слуху и глазу слова, пришлось приписать к ним сочинение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



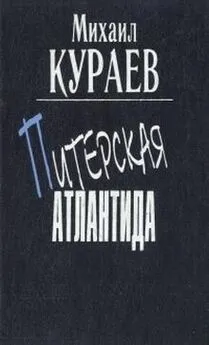
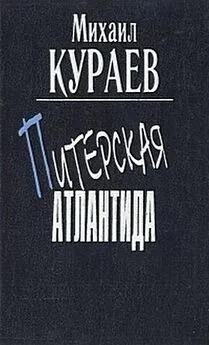
![Михаил Кураев - Саамский заговор [историческое повествование]](/books/433685/mihail-kuraev-saamskij-zagovor-istoricheskoe-poves.webp)


