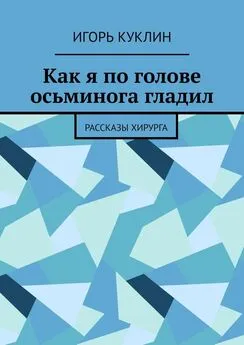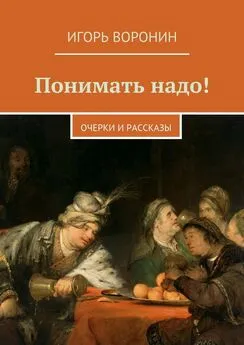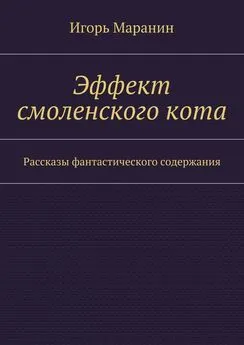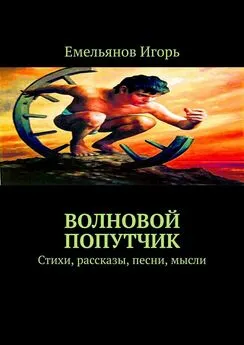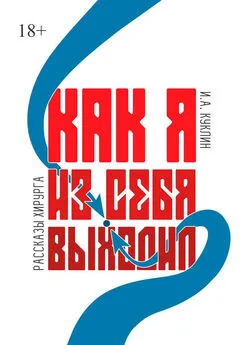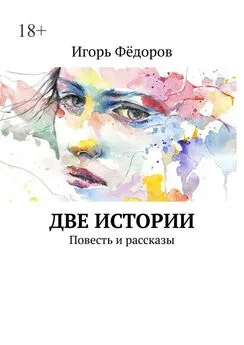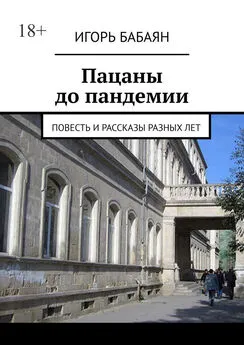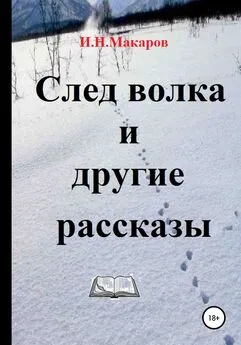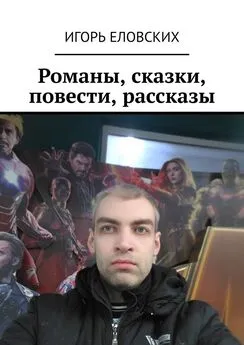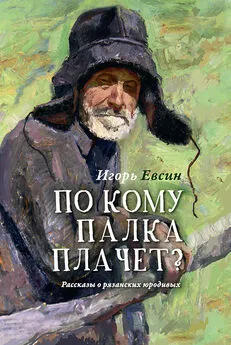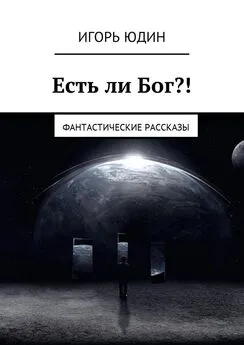Игорь Куклин - Как я по голове осьминога гладил. Рассказы хирурга
- Название:Как я по голове осьминога гладил. Рассказы хирурга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005338419
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Куклин - Как я по голове осьминога гладил. Рассказы хирурга краткое содержание
Как я по голове осьминога гладил. Рассказы хирурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Про чемоданчик
Это, пожалуй, единственный рассказ отца, и то не о самой войне, а о возвращении домой, подслушанный мною в его мужской компании. После тяжёлого ранения (осколочного в живот) отца признали годным к нестроевой службе, и какое-то время он работал в комендатуре небольшого городка в Польше. Поэтому возвращался домой через год после окончания войны. В поездах уже можно было встретить и гражданских людей, но общее приподнятое настроение было у всех. Победители! Едут они большой шумной компанией через всю страну, кто-то выходит, кто-то заходит. Шутки-прибаутки, гармонь, песни… Едет с ними и какой-то мужичок в кепке, неразговорчивый, днём спит, ночью нет. С чемоданчиком не расстаётся. Носит его с собой в туалет, на перрон – на остановках погулять. Когда спит на третьей полке, под голову кладёт. Никому не мешает и настроение не портит. Пусть едет… На очередной остановке заходит в вагон бравый майор и сразу же становится центром внимания. Всех угощает, громче всех хохочет. Через какое-то время бредёт по вагону смурной капитан. Хромает, ни на кого не смотрит. «Степан!» – бросается к нему майор. «Иван…» – расцветает капитан. «Служили вместе», – поясняет всем майор. Усаживает капитана рядом, расспрашивает о жизни. А потом обводит всех загадочным взглядом и говорит: «А вы знаете, кем Стёпа до войны был?» – «Не надо, Ваня», – возражает капитан. «Да ладно, Степан, дело прошлое. Вором, да еще каким! Покажи, Стёпа, класс». – «Перестань, Иван!» А тут уже и всем интересно стало, капитана упрашивают. Едва он согласился. Примостился на соседнюю полку рядом со спящим мужичком, попросил у попутчиков скатку (сложенную плащ-палатку) и потихонечку, в такт движению поезда, заменил чемоданчик под головой мужичка на скатку, тот даже не проснулся. Прервал майор довольные возгласы и аплодисменты публики и с заговорщицким видом говорит: «Ступай, Степан, в тамбур, а мы мужичка разбудим. Повеселимся!» Как увидел мужик, что чемоданчика нет, завыл нечеловеческим голосом, стал обеими руками полку царапать. А майор ему говорит: «Ладно, мужик, успокойся, сейчас за Стёпой схожу». С той поры ни чемоданчика, ни капитана, ни майора в этом поезде никто не видел…
Баба Катя
Это наша соседка по улице и дальняя родственница. Фамилия у неё была Куклина, но по первому мужу. Совершенно удивительный человек. Я никогда её не видел злой или хмурой, она всегда улыбалась. Маленькая, сухонькая, она обладала каким-то особенным даром рассказчицы. Ходячей газетой была она в селе. «Ой, моя-а-а…» – так она обычно начинала, отрывая от газеты четырехугольный листок и насыпая на него из кисета махорку. Потом аккуратно слюнявила кромку листочка и ловко сворачивала из него козью ножку. «Ты Гриньку-то с низовьев знашь? Ево дядька-то ишо в колхозе машину переворачивал, а мамка замуж в Гавань уехала». И, видя понятливый кивок мамы, продолжала: «Так ить чё он, дурень, нынче учудил-то…» Мама уже гоношила на стол почаёвничать. Дым от бабакатиной самокрутки был особо ароматным, не как от папирос отца… И мы, мальцы, уже присаживаемся поближе, уже знаем, что рассказ будет в лицах, баба Катя изобразит каждого. Тут мама спохватывается: «Ну-ка, марш на улицу! Нечего тут уши развешивать».
Замужем баба Катя была за хмурым, высоким и сутулым стариком. Даже не замужем, а так, сошлись, говорили в деревне. Гражданский брак – сказали бы сейчас. Как его по имени звали, в селе забыли. Для всех он был дед Дерябин. Работал он ветеринаром. После того как он приходил к нам, когда корова заболела, надел перчатку по плечо и по самое плечо руку в корову-то и засунул, я стал его побаиваться. Ещё дед очень любил рыбачить. Часто его сутулую фигуру в дождевике видели с удочкой на речке. Стороной обходили, нелюдимый он был. Как они уживались с бабой Катей – одному Богу известно.
А какой она хлеб пекла! Чёрный, неказистый на вид, но очень вкусный, – и горячий, и чёрствый. Русская печка занимала половину кухни её избы, но сохранилась дольше всех в селе, может, поэтому и хлеб, в ней выпеченный, был таким необыкновенным. Весть «Баба Катя хлеб принесла!» мигом собирала за стол всех детей. Вкуснее этого хлеба с молоком я не ел ничего в жизни. Съедали всё до крошки.
Баба Катя воспитывала моих двоюродных сестёр. Их мама, тётя Вера, работала единственным хирургом и главным врачом в нашей больнице. И время для дочерей у неё было совсем мало. Ну, как воспитывала… Водила с собой по деревне. И все новости девчонки узнавали первыми. А мы уже потом от них. Как-то я уже взрослым во время своего отпуска записал бабу Катю на камеру. Едва дома застал, несколько раз заходил. «Ты чей?» – спросила. «Да мы тут напротив жили». – «А, Санькин…» – вспомнила. Она специально даже новый платок из сундука повязала. И обратилась в камеру к младшей из сестёр: «Таньча, моя Таньча. А помнишь?..» И когда я потом показывал эту запись сёстрам, те ревели навзрыд. Запись эта канула в Лету из-за безалаберности нашей и уверенности в бессмертии наших родственников…
Память у бабы Кати была отменная. Она рассказывала всю историю нашей семьи с дореволюционных времён. Ни разу не грамотная, наизусть красиво и долго декламировала любимого Есенина. Не могла только запомнить фамилию главного коммуниста, за которых она исправно во все выборы голосовала. Дальше «Зю» ничего не вспоминалось.
Ей было около 90 лет, когда её прихватил аппендицит, да ещё с перитонитом. Думали, не выживет бабушка. Да срок, видимо, ещё не пришел. Поправилась баба Катя и ещё несколько лет прожила. Ходила только не так далеко по селу. Умерла она в 93, угасла тихо, как свечка.
БЕЛКА-ЛЕТЯГА
…«Ну где же эта яма?» – я уже долгое время брожу по берегу горной реки. Здесь, среди кустов, нужно быть внимательнее. Иногда, видимые сверху, но чаще заросшие тонким слоем корней и травы, под кустами встречаются глубокие ямы, на дне которых вода течёт. Я-то уже большой, в третий класс перешёл, а если в них кто из малышни попадёт, то утонуть не утонет, но выберется из них нескоро. Эти ямы люди используют как холодильники, помещая туда в металлических флягах или, как мы, в эмалированных вёдрах мясо и другие скоропортящиеся продукты. На всё время, конечно, не хватает, однако на потом есть тушёнка.
Это Талачи. Холодные Талачи. Обычный срок отдыха и лечения здесь от десяти до четырнадцати дней. Есть ещё Горячие Талачи, где горячая вода бьёт из-под земли, и не только там с нею ванны принимают, но даже с её помощью домá обогревают. Есть Кыринские Талачи. Сюда можно приехать только зимой, когда замерзает река и в ней образуется полынья с горячей водой. Над этой полыньёй ставят сруб и «принимают ванны». Богат край моего детства, очень богат. И рыбой, и зверьём, и золотом. Здесь целый рудник работает, шахты нарыты, старательская артель уже сколько рек загубила, а золото всё не кончается… Ещё много целебных источников: Двенадцать Ключей, Шивычинские Талачи… Только последние из них – Шивычинские – близко расположены, остальные все далеко в тайге.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: