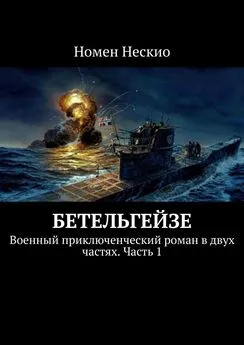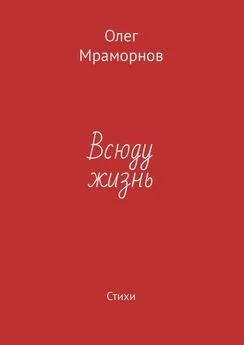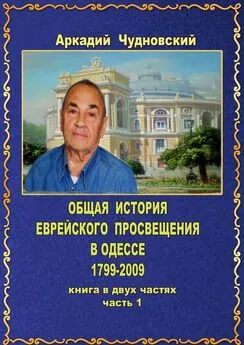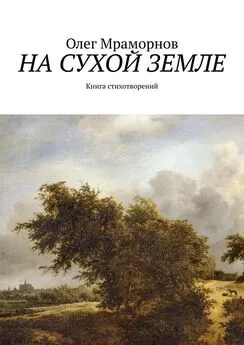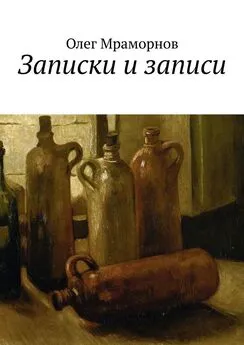Олег Мраморнов - НАБЛЮДЕНИЯ и СЮЖЕТЫ. В двух частях
- Название:НАБЛЮДЕНИЯ и СЮЖЕТЫ. В двух частях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449831828
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Мраморнов - НАБЛЮДЕНИЯ и СЮЖЕТЫ. В двух частях краткое содержание
НАБЛЮДЕНИЯ и СЮЖЕТЫ. В двух частях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Равных нет мне в жестоком счастье:
Я, единственный, званый на пир,
Уцелевший ещё участник
Походов, встревоживших мир.
На самой широкой дороге,
Где с морем сливается Дон,
На самом кровавом пороге,
Открытом со всех сторон,
На еще неразрытом кургане,
На древней, как мир, целине, —
Я припомнил все войны и брани,
Отшумевшие в этой стране.
Точно жемчуг в чёрной оправе,
Будто шелест бурьянов сухих, —
Это память о воинской славе,
О товарищах мёртвых моих.
Будто ветер, в ладонях взвесив,
Раскидал по степи семена:
Имена Ты их, Господи, веси —
Я не знаю их имена.
(1947)
Это звучит одновременно и строго, и изобретательно.
У двух эмигрантских поэтов есть написанные на одну тему и одним и тем же размером строки.
Мы отдали все, что имели,
Тебе, восемнадцатый год.
Твоей азиатской метели
Степной – за Россию – поход.
Николай Туроверов
Как будто вчера это было —
И спешка, и сборы в поход…
Мы отдали все, что нам мило,
Тебе, восемнадцатый год.
Николай Келин
Можно подумать, что автор второго четверостишия, Келин, сочинил стихи под влиянием Туроверова – более известного и признанного. Но это исключено – уважающие себя поэты друг у друга не переписывают. Похожесть вызвана тем, что восемнадцатый год глубоко отложился в сознании обоих, навсегда врезался в память: они отдали ему самое дорогое, что имели, – юность. В том году они оба были молоды: первому не было двадцати, другому немногим больше. В эмиграции они познакомились, а до того вместе воевали в Крыму. Им не было нужды повторять друг друга и что-то выдумывать. Стихи у них вращались вокруг темы изгнания на чужую землю, невозможности возвращения, потери родины, утраты наследия . Как вот эти строки Туроверова.
Не дано никакого мне срока,
Вообще, ничего не дано,
Порыжела от зноя толока,
Одиноко я еду давно;
Здравствуй, горькая радость возврата,
Возвращённая мне, наконец,
Эта степь, эта дикая мята,
Задурманивший сердце чабрец, —
Здравствуй, грусть опоздавших наследий,
Недалёкий, последний мой стан,
На закатной тускнеющей меди
Одинокий, высокий курган!
(с посвящением П.Н.Краснову, конец 1930-х гг.)
Каково это – навсегда лишиться права на наследие отцов? Стихи Туроверова энергичны, но могут быть пронзительно горькими. Горькая радость возврата… Возвращение происходит исключительно под властью воспоминаний (выражение самого поэта, см. эпиграф) и образует сквозное содержание туроверовской поэзии. Она решительно устремлена к идеальной сверхдействительности возвращения, где происходит восприятие и получение отобранного наследия.
А складываться его поэзия начала из памяти о родных местах, опознанных в детстве и юности. Поэт навсегда оказался в стане изгнанных за пределы родины воинов – с осени 1919 года не видел Дона и степей ( почти незнакомый Дон , говорил он). Францию, где проживал, называл родиной своей свободы, весёлой мачехой; оксюморон европейского ласкового плена даёт представление о широких возможностях звучания туроверовской лиры.
Эти дни не могут повторяться —
Юность не вернётся никогда.
И туманнее, и реже снятся
Нам чудесные, жестокие года.
С каждым годом меньше очевидцев
Этих страшных, легендарных дней.
– Наше сердце приучилось биться
И спокойнее, и глуше, и ровней.
Что теперь мы можем и что смеем?
Полюбив спокойную страну,
Незаметно, медленно стареем
В европейском ласковом плену…
(1930-е гг.)
Жизнь Туроверова в родных местах была намного короче эмигрантской. А его воспоминания о жизни на родине потому были такими стойкими, что сопровождались явлением музы , которая питала в нём творческие силы и порождала – почти из ничего – всё новые и новые смыслы, дополняла образ родимого края тем или иным оттенком, штрихом – здесь есть во что вчитываться. Воспоминания Туроверова через поэзию обретают утраченное, восстанавливают оборванное время и возвращают его.
Звенит над корками арбуза
Неугомонная пчела.
Изнемогающая Муза
Под бричкой снова прилегла,
Ища какой-нибудь прохлады
В моём степном горячем дне,
И мнёт воздушные наряды
На свежескошенной стерне…
(1930-е гг.)
Русская литература в XX веке заметно сдвигается на юг – тут и Шолохов, и Солженицын, с его Ставропольем и Кавказским хребтом в «Красном колесе», и сравнительно недавно скончавшийся поэт Юрий Кузнецов с выразительными картинами Кубани. И Туроверов – он тоже поэт южнорусского края: муза его происходит из придонских степей, с башен Азова, который героически защищали его предки. Он не раз обращается к музе.
Стояла на башне Азова,
И снова в боях постоишь,
Вручала мне вещее слово,
И снова другому вручишь.
Одна ты на свете, родная…
(«Переправа», с посвящением Музе, 1950)
Начальные месяцы повстанческого движения на Дону у Туроверова переданы очень динамично и захватывающе.
Февраль принес с собой начало.
Ты знал и ждал теперь конца.
Хмельная Русь себя венчала
Без Мономахова венца.
Тебе ль стоять на Диком поле,
Когда средь вздыбленных огней
Воскресший Разин вновь на воле
Сзовёт испытанных друзей?
Ты знал – с тобой одним расплата
За тишь романовского дня.
Теперь не вскочит пылкий Платов,
Тебя спасая, на коня…
(«Новочеркасск»)
Юность не возмездие отцам, как у Генриха Ибсена и Александра Блока, а расплата: за обманчивую «тишь романовского дня» на краю империи, где родились и жили отцы, за беспечную дремоту старших…
Русь сняла с себя венец Мономаха , вверглась в смуту. Заполыхали пожарища, о которых и думать забыл патриархальный Дон. В «Новочеркасске» нота у Туроверова взята высокая: бесстрашие и беззаветность юности, рвущейся на подвиг, готовой добровольно принять смерть. Взять на свои плечи – почти детские – ответственность за судьбу родины, которая гибнет от накопившейся злобы, от бездарности политиков, от озверения черни, от обывательского равнодушия и цинизма – это не может оставить равнодушным. Жертвенность – тем более, когда сквозь неё проступают хрупкие черты юности, – всегда волнует.
Туроверов обладал незаурядным даром стихотворца-повествователя, повествуя в стихах о поколении молодых офицеров, гимназистов, кадетов, реалистов, семинаристов, откликнувшихся на призыв казачьих вождей революционной эпохи: Волошинова, Каледина, Чернецова, Митрофана Богаевского, Назарова. Но он сознавал – с течением изгнаннических лет всё отчётливее – скоротечность бранной славы, напрасность размашистой удали, говорил о весёлой тоске молодости, о чарующем обманном рассвете , о чести и измене, слёзах и плетях, подвиге и разбое… Однако идеалистический порыв восемнадцатого года, когда он с весёлой тоской скакал в рядах казачьей лавы, остался для поэта реальностью героической, несмотря ни на какие оговоры и оговорки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
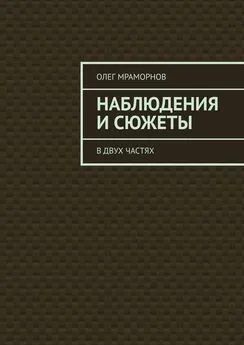

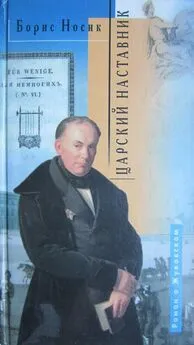
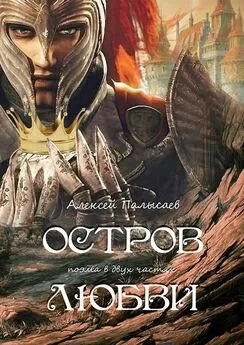
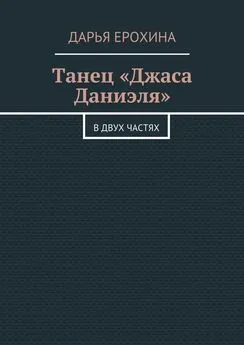
![Леонид Резник - Диктатор поневоле [Фантастическая повесть в двух частях]](/books/1097857/leonid-reznik-diktator-ponevole-fantasticheskaya-po.webp)