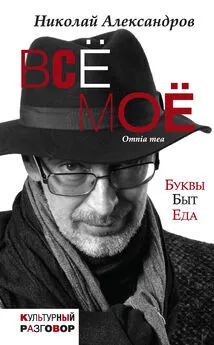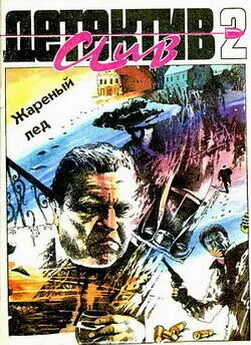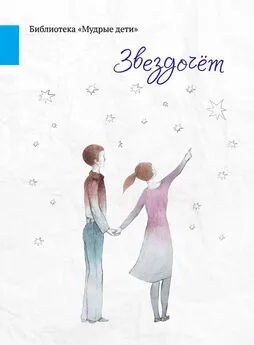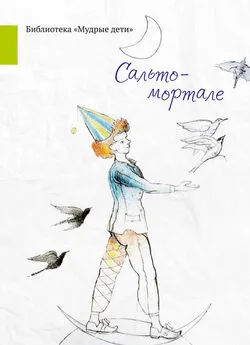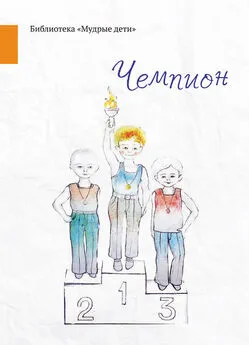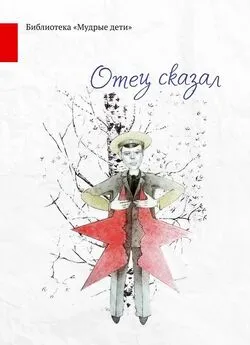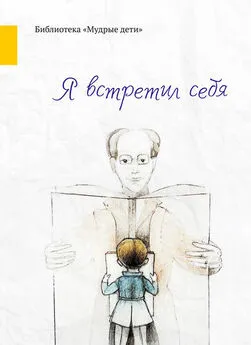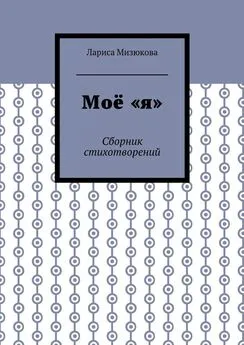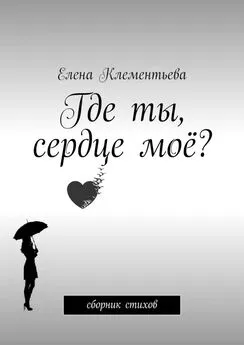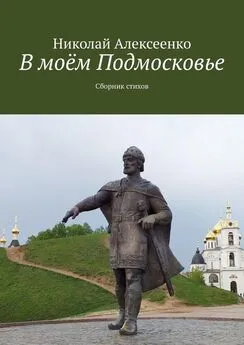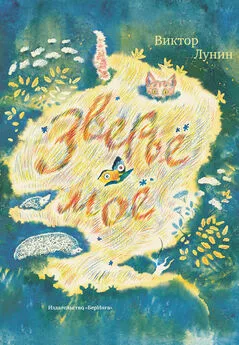Николай Александров - Всё моё (сборник)
- Название:Всё моё (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-107889-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Александров - Всё моё (сборник) краткое содержание
Всё моё (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Понятно, что постмодернизм дает совершенно необъятное пространство для мифа. Собственно, постмодернизм и есть сплошное порождение пустых мифов. Логика, диалектика здесь, в этом пространстве, в этом измерении, не работают. Из этого следуют вот какие любопытные вещи.
Постмодернизм художественный, литературный – это сознательная, отстраненная игра в мир, потерявший Единое. В роли Единого выступает автор, намеренно отвернувшийся, отстранившийся от своего создания. То есть он сам в себе может сохранять единство, но созданный им мир к нему отношения не имеет.
Вот дворянская усадьба. Суета в доме. Барышня в радостном волнении, в ожидании какого-то важного события. Все вполне узнаваемо, все в соответствии с кодами классической литературы. Но потом оказывается, что барышня готовится к тому, чтобы стать главным блюдом на праздничном ужине. Ее должны съесть (рассказ Владимира Сорокина). В классическом читательском восприятии такое невозможно. Повесть из дворянской жизни – одно, а сказка про Ивашечку, которого хочет съесть ведьма, – другое. В постмодернизме – возможно. Одно существует рядом с другим и уже самим этим фактом одновременного существования указывает на ложность создаваемого мира. Точнее, на его инаковость.
Если мы в политике, в политическом дискурсе будем утверждать, что радостный быт дворянских усадеб связан с тем, что в усадьбах периодически ели барышень и сами барышни этого хотели, то мы или циники, или безумцы. Но циники все-таки – скорее всего.
Был ли Розанов постмодернистом. Был.
Розанов был Фейсбуком своего времени, клейкой бумагой, на которую налипали наивные мухи-читатели. Он всех подкупал своей интимностью, и в этом обращении ко всем и был его феномен. Только он в голодном 1918 году мог написать: «Читатель, горстка крупы, немного табака могут спасти твоего писателя».
Я вот, например, ущербный человек ущербной эпохи, вынужден писать к тебе, Соломонов, условностью адресного обращения возмещая недостаток открытости, розановской апелляции ко всем.
Розанов был как радушный лукавый хозяин, который пьет на террасе чай, глядит на мир и говорит всякому проходящему: заходи, и тебе чашечку налью. И растроганный посторонний идет, усаживается с Розановым за стол, пробует его варенья. А Розанов мирно воркует, мешает ложечкой чай в стакане с подстаканником, показывает всякие коллекционные мелочи: монетки старинные, книжки, цитаты, листочки с надписями, окружает обманчивым уютом. И хорошо так, по-домашнему становится.
При этом одновременно с заднего крыльца Розанов может принимать совсем других гостей. На общую доверительность, на позицию письма, благоустройство читателя это никак не влияет.
Странное существо человек. Он жмется к другим, к теплу пусть даже никчемной беседы. Томится в ожидании – вдруг что-то произойдет, случится чудо – и жизнь изменится. Чуда не происходит, но зато даже пустые светские беседы с далекими, в общем-то, чужими людьми согревают. А главное, спасают от самого страшного страха – одиночества. Когда ты один, по-настоящему один, на тебя обрушивается весь поток существования. И от этого жутко. Что делать с этой слепой в своем движении силой, как удержать оболочки своего Я от разрушения, от безумия, от отчаянья? «Нехорошо человеку быть одному» – и то правда. Можно было бы сказать – трудно быть одному. Потому что ближние утешают, отвлекают, убаюкивают, и кажется, что вихрь жизни проносится где-то рядом, над крышей. Там – холод и дождь и мрак грозных вопросов и требований. А здесь – уют, нагретый чужим дыханием, голоса, мир – в смысле общность, – и можно забыть о буре, бушующей за окном.
Чем же так пугает этот экзистенциальный поток? Наверное, безликостью, неоформленностью, хаосом. И бессмысленностью. Это то самое аморфное, чистое существование, которое приводило в оцепенение героев Камю. Смысл в этот хаос может быть только привнесен, но когда ты один, эти жалкие попытки хотя бы как-то справиться с течением бытия, с этой гудящей онтологической трубой (!) – обречены.
Короче говоря, отшельничество – трудный путь, тем более отшельничество без веры. Собственно, в этом и был эксперимент экзистенциалистов.
«Боже мой, как трудно писать!» – написал я, и это восклицание, достойное страдающего циститом, справедливо и в том случае, когда ударение в глаголе падает вполне ординарно, то есть на второй слог. При этом выраженные в этом простом предложении муки творчества, видимо, из-за амбивалентности высказывания на письме, приобретают остро ощутимые физиологические оттенки. «Не хотим писать в пустоту» – такой заголовок мой отец дал заметке об австрийских молодых композиторах, когда работал в газете «Советская культура». Австрийские композиторы жаловались на невостребованность своих произведений. Банальная проблема не только музыкальной среды. Он, как всегда, опаздывал, заметка версталась поздно, заголовок попросили изменить, и он по телефону сказал первое, что пришло в голову. Так газета и вышла. Утром добрые друзья журналисты позвонили отцу и поздравили его. Собственно, я тоже не хочу писать в пустоту. Поэтому пишу тебе, дорогой Соломонов. С трудом, но пишу.
За отчетный период я ознакомился с целым рядом книг (американских авторов), посвященных писательскому мастерству. Писатели, по большей части мне не знакомые, но, судя по всему, добившиеся успеха в США, делятся секретами своего ремесла и наставляют юные дарования на нелегкий путь беллетристики. Подобного рода пособия у меня всегда вызывали смутное чувство неприязни и небезосновательные подозрения в шарлатанстве. Во-первых, я, человек читающий, освоивший и просмотревший гору литературы и литературной макулатуры, не знаю, что такое писательское мастерство, как ему следует учить, а главное – стоит ли учить. Во-вторых, вся ремесленная литературная грамматика настолько невнятна, пошла и тошнотворна, что заставляет сомневаться в здравом уме и честности людей, берущих на себя ответственность обучать оной грамматике молодых людей, начинающих свой путь в литературе. В-третьих, все книги по писательскому мастерству, если опустить лирические отступления, воспоминания, примеры и цитаты, сводятся к одному тезису: для того чтобы научиться писать – нужно писать. С этим не поспоришь. Но в таком случае я на верном пути.
Я пишу, несмотря на кризисы и бури, плохое настроение и житейские неурядицы, недостаток воображения и отсутствие плана. Я двигаюсь. Я соединяю, пусть и с трудом, одно слово с другим, я пытаюсь поймать вдохновение, поверить в свои силы…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: