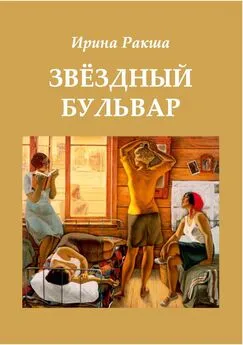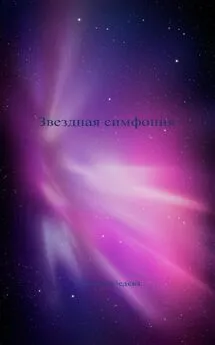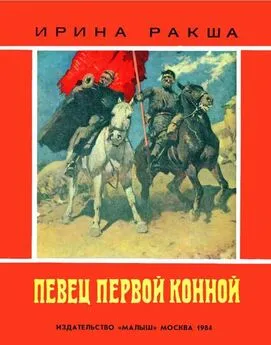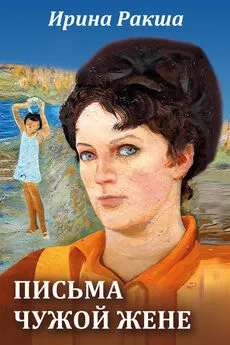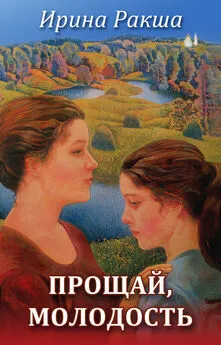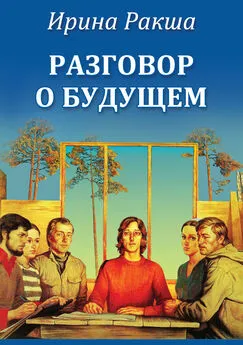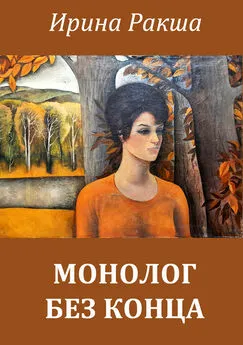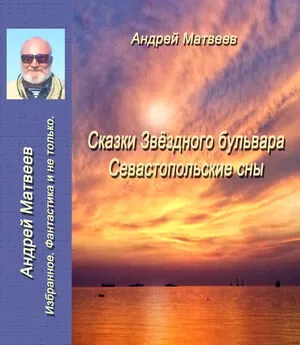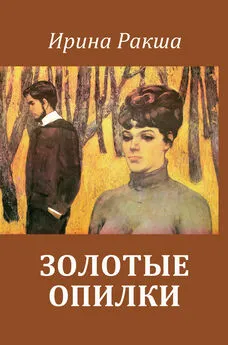Ирина Ракша - Звездный бульвар
- Название:Звездный бульвар
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-907042-68-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Ракша - Звездный бульвар краткое содержание
Так что – читайте! И приятных Вам минут!
Фотоматериалы из личного архива автора. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»
Звездный бульвар - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Останкино ярко цвела золотая осень. Величаво, торжественно стоял порыжевший Шереметьевский парк. На горящем, оранжевом фоне листвы – четкое кружево черных ветвей и черных стволов. У входа в парк драгоценно белел колоннадой роскошный дворец. Окна были грубо забиты потемневшими старыми досками, но по сторонам входной лестницы дом по-прежнему стерегли живописные верные львы. Давно не гордые – замусоленные и обшарпанные. С отбитыми лапами и ушами. И не было в округе пацана, который бы хоть раз не восседал на них. И, шмыгая носом, не хлопал бы ладошками по грязным каменным гривам.
Вдали же, напротив имения, на убогих останкинских пустырях по осени ритуально дымились костры. Там и сям окрестные жители на огородах сжигали ботву. В воздухе сладко пахло гарью, кострами, печеной картошкой. Мы с мамой тоже копали и убирали картошку. В мешки. На своем чудом полученном участке в пять соток. Раньше на этих сотках располагались пузатые серебристо-серые аэростаты. В войну они охраняли московское небо от вражеских самолетов. Да тут пока и остались. Называлось все это – противовоздушная оборона. Пункт ПВО. И эти последние «ненужные» аэростаты напоминали старшим о бомбардировках столицы, а мне – два живых организма, мерно вздыхающих, колышащих на ветру свои тугие и беззащитные животы. И было неясно, как они, такие толстые, неповоротливые, могли охранять Москву от фашистов. А чтобы они не вздумали улететь, их прикручивали тросами к железным крюкам, попарно вбитым тут и там в землю. И, глядя на этот пункт и на клочки огородов вокруг, невозможно было вообразить, что спустя какой-то десяток лет на этом месте потянется в небо полукилометровый, отовсюду видный шпиль останкинской телебашни – немыслимое, невиданное в те годы дитя прогресса. А его основание, его огромные разлаписто-бетонные «ноги» упрутся в эти самые «огородные» сотки. И возрастать это чудо будет прямо на наших глазах. Поскольку окна шестого корпуса смотрели как раз в ту сторону.
Но до этого было еще далеко. Пока в поле жили аэростаты. Наверно, в войну они были очень нужны. По ночам, натягивая тросы, они неслышно поднимались в черно-синее небо в ожидании врага. И дрожали там пузырями под звездами, на вселенском ветру. Как живые, могли оглядывать с высоты, словно детский макетик, белый дворец с парком и темным прудиком, трамвайный круг и все три Останкинских улицы. И, конечно же, наши бараки, поставленные аккуратным рядком, как спичечные коробки. В сорок первом именно эта геометричность и соблазняла немецких летчиков бомбить наши дома.
Сверху, с тревожных небес, аэростатам было видно все: Шереметьевское имение и Марьина роща, Кашенкин Луг и дубки, село Алексеевское и Ростокино. В дальней дымке – Ржевский вокзал. Уже не Виндавский, как до революции, но пока и не Рижский, как нынче. А еще, как на ладони, им были видны павильоны и площади закрытой тогда сельхозвыставки, где возвышался белый памятник Сталину – в полный рост, в шинели – и еще алюминиево-серый – рабочему и колхознице. Правда, памятники были обложены мешками с песком, закамуфлированы – до неузнаваемости.
И вообще, под надутыми серебристыми их животами широко простирался весь наш темный, тревожно спящий в военных дымах полуголодный город.
Ну а после войны аэростатами занимались на пункте девушки. Рота девушек в лихих пилотках, ладных сапожках, в защитной военной форме с погонами. Война миновала, и потому смешливые и «бесстрашные» девчата нового призыва были задорны и отутюжены, и, конечно, полны чувства собственной важности. От нашего дома отчетливо были видны вдали не только большие аэростаты, но и казавшиеся маленькими армейские постройки, подсобки и жилые брезентовые палатки, выцветшие за лето до белизны. А дальше за пунктом ПВО синела дубовая роща, великолепно написанная когда-то с натуры художником Левитаном.
Да, это были те самые могучие и царственные «Останкинские дубки». Историческая дубрава, которую три века назад наши предки с особой заботой, с молитвой и тщанием взращивали на шереметьевских, графских землях. А какие там были гулянья! Какие концерты! Игры с танцами, музыкой! И цирк-шапито приезжал. И для детей зверинец… Кто только не побывал там – в Марьиной роще, в Дубках… А при советской власти дубраву начали изводить, незаметно, упорно так вырубать. Особенно после войны. Делать просеки, прогалины. Засаживать огородами. А дровами из вековечного дуба – топить в «частном секторе» печи. И остановку автобуса, что за «Марьиной рощей», называли уже «Дубовый просек». Конечно, ни Марьи, ни ее березовой рощи давно уже не было. А вот могучие дубы и дубки вырубались и исчезали прямо у нас на глазах.
Женская школа № 271 была от дубравы недалеко. И после уроков молоденькая учительница всем классом водила девочек в лес погулять. Зимой – соревнуясь, побегать на лыжах. А осенью – соревнуясь же – набрать желудей. Да побольше. В помощь какому-то лесохозяйству. Задание было ответственное. А соревновательный дух буквально витал тогда в воздухе. Разбредясь меж стволов, мы внаклонку собирали желуди. Жадно, старательно выбирая пальчиками из сухой травы. На ощупь они были приятные. Гладкие и прохладные, как отборные камешки-голыши. Ссыпали мы их в портфели, в мешки из-под обуви. И, скользя, они постукивали глухо и весело. Мы свято верили, что спустя годы из них вырастет тут дубрава, полная птичьего гомона, шума листвы на ветру. И все это зависело, как казалось, от нас, от малого желудка́ на нашей ладошке. Очень уж хорошо было нам в дубраве. Легко, просторно, как в чистой, высокой горнице. А сколько грибов-крепышей там было по осени, сколько ландышей по весне!
И вот – все вырублено под корень. Ни желудка́ кругом, ни пенька. Одно названье осталось – «Дубовый просек». И можно лишь с благодарностью вспомнить тот щедрый и беззащитный лес, где в кружеве зелени, в солнечном мареве остались, словно мираж, наши детские силуэты.
А еще аэростаты напоминали мне новенькие цистерны с горючим, которые стояли на запасных путях, за Марьиной рощей. Иногда мы, собравшись всей барачной ватагой – Саидка с Маршидкой, Ленька, Витя-Хрюня, братья Калашниковы и еще кто-нибудь из соседнего пятого корпуса – отправлялись «на точку» – «позырить». И не просто позырить, а втайне надеясь: вдруг там чего и отколется, в смысле – пожрать. Однажды Саидка принесла оттуда необычайный, обсыпанный чем-то сухарь, про который тетя Роза сказала «ванильный». На мою обычную дворовую просьбу «дай куснуть» Саидка отвернулась и не ответила. Зато из ее рук сухарь перенюхали все ребята, жадно втягивая сопливыми носами дивный, ни с чем не сравнимый запах.
На пункт ПВО мы бежали вначале сосредоточенно и решительно. Через болотце, поросшее камышом и осокой, лихим галопом. По хлюпающим набросанным по тропе доскам – только брызги стреляли из-под голых пяток и башмаков. А взойдя на пригорок, в поле с заплатами картофельных огородов, стали шагать все медленнее, медленней. Приближаясь, аэростаты словно росли навстречу нам. Надвигались и надвигались, закрывая и застя и дальнюю рощу, и красное вечернее солнце, что уже валилось к горизонту. Мы – ватага убогих мальцов – петляли по тропкам и межам, где окученными рядами зеленела не зацветшая еще картошка. Наконец, растянувшиеся гуськом, оробевшие, в выцветших штанах и платьишках, оказывались в тени толстопузой громадины. Ну а к самой площадке подбирались уже пригибаясь и крадучись. Потом рассыпались у самого края. И залегали цепью в межах. Притаившись, лежали на теплой, комковатой и пыльной земле. От волненья казалось, что слышно, как колотятся наши сердца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: