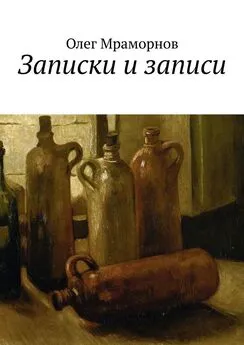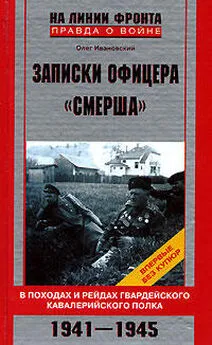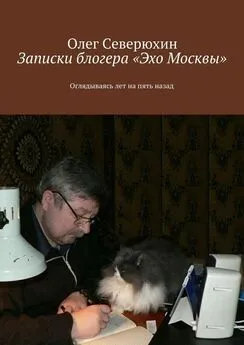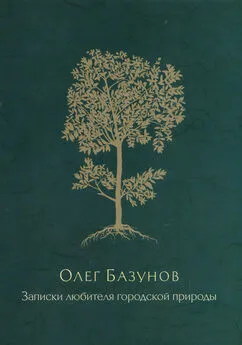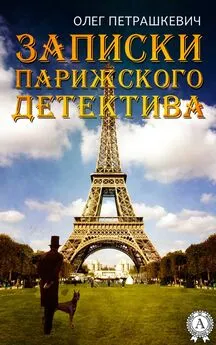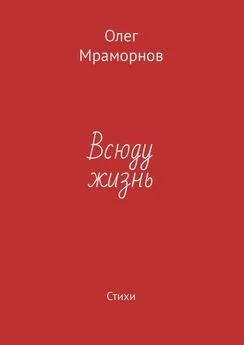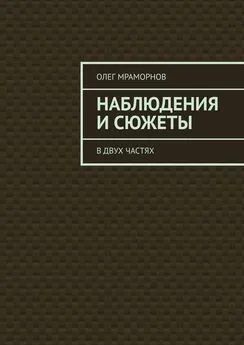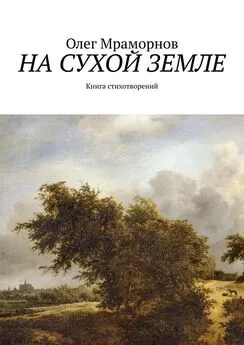Олег Мраморнов - Записки и записи
- Название:Записки и записи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449641502
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Мраморнов - Записки и записи краткое содержание
Записки и записи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Славянская душа брата любила щемящие мотивы песен «Лучина», «Вот и станешь ты взрослою…», «Меж высоких хлебов затерялося». К этой лирике примыкает и её продолжает Рубцов. И совсем удивительно сходится с лодкой . Игорь однажды – в прежние годы – рыбачил сетками в одном укромном местечке и пустился в непогоду на лодке вниз. Поднялась такая волна, пошёл такой дождь, так всё гремело и стонало, что он более не мог плыть, подогнал лодку к берегу, бросил, оставил там, более не вернулся, и она догнила на мели. Отец ругался, был недоволен. Но брат мог поступать резко: лодка была старой, смолить и конопатить её он более не желал.
До страсти любил он окружавших нас в детстве и юности чудаков-выпивох. Счастливо воспалялся и смеялся, погружаясь в поток жизней, посреди которых и рядом с которыми осуществилась его собственная. Не долгая – не дожил до шестидесяти, но интенсивная, порывистая, красивая перед моими глазами.
Он был по натуре всадник, наездник, скачущий в неизведанный простор и оставляющий позади скучную обыденность. Расширял горизонты, мерился силами со стихией, с препятствиями и с людьми, которые пробовали ставить ему преграды на его пути, пытались помещать быть вольным человеком. При этом он был любомудр, воспитанный на русских мальчиках Достоевского, такой же (более поздний по времени) русский мальчик из донских степей. Как человека, решающего религиозную загадку бытия на земле, его влекло всё неизведанное и подлинное. А подлинность ложится на чистое и доверчивое сердце, способное к удивлению.
Фальши он не переносил. Всякого кривляния, претенциозности. «Не верю!» – говорил он, сталкиваясь с очередной фальшивкой. «Не верю! – сказал за день перед смертью, посмотрев телевизионный сюжет о съёмках сериала на тему „Тихого Дона“, – не верю, что Маковецкий сможет сыграть Пантелея Прокопьевича. Какой из него Пантелей Прокопьевич!» (Маковецкий в этой роли заметно уступает актёру Ильченко, игравшему Пантелея Прокопьевича в классическом фильме Сергея Герасимова.)
Я был свидетелем преображения его ума. Сын земной девы Иисус есть Сын Божий! Поразительно, невероятно! Мы с ним причащались из одной чаши. Всё, что укрепляет чувство иной реальности, влекло его. Он не уставал удивляться чудесам, которые отрывает нам природа, откровение невидимого Бога. Жажда неизведанного, таинственного находила выход в поисках истинного человека. Но ещё более чудесно Царство Божие – и свободой, и правдой. Там люди насыщают свою жажду правды. И воздаст ми Господь по правде моей, по чистоте руку моею воздаст ми .
…
Он пошёл вослед моим книжным занятиям. После прохождения службы в армии (служил со всякими приключениями на Амуре, заливался смехом, когда об этом рассказывал, служил, впрочем, исправно и вернулся из армии старшим сержантом) обучался филологии, в институте влюбился в студентку-чешку, женился, несколько лет прожил в Чехии, всю её объездил и хорошо знал чехов ещё в семидесятые годы. Объяснял чешским людям, что вовсе не все русские имели желание проехаться по ним танками, выслушивал от братьев-славян гневные слова и терпел тычки. Родил в Чехии сына, вернулся; работал словесником в местной школе, перебрался в областной центр, преподавал в лицее, в гимназии, в институте, в православном училище…
Он не был удобным человеком. И в областном городе оставался вольным одиночкой, трудно сходился с людьми. Но не оставил суждённого ему поприща и работал по призванию – передавал не только учебный материал, а пережитое, познанное. Школа не затянула рутинностью, преобладанием женского пассивного начала. Он не поддавался – до конца остался вольным человеком степей, не согнутым, не покорённым.
Как преподаватель он воздействовал сразу и на разум, и на чувства, будоражил юные умы и сердца – он это умел и не давал ученикам закоснеть в узкой самости. Среди учеников попадались восприимчивые ребята; я это знаю непосредственно по их устным замечаниям и отзывам, по письменным работам, которые он мне показывал. Он организовал и вёл популярные в городе литературно-философские студии. Был креативен, изобретателен, философствовал свежо, из собственной глубины, ибо всегда жил интенсивной внутренней жизнью.
Я воспитался на чтении поэзии, а он до бесконечности любил Достоевского. Герои этого писателя, с их блужданиями и исканиями, сформировали брата. Он не щадил Петра Верховенского и шёл дальше Шатова – то есть верил не только в Россию, но и в Бога. Как настоящий литератор – неважно, пишущий или преподающий – превыше всего ставил гармонии Пушкина. В свои последние дни он так объяснил мне замысел «Станционного смотрителя», где, оказывается, Пушкин даёт – на примере Дуни – свой вариант с историей блудного сына (дочери), что я развесил уши. Внимательно читавший Константина Леонтьева и Василия Розанова, он стремился и их включить в умственный оборот провинции, чтобы та не поскучнела до полной серости.
…
Нам хватало впечатлений жизни; его энергичная натура ненасытно требовала жизни и движения; мы мало говорили о смерти. Старуха с косой явилась незаметно. В свой последний день он попенял мне, что я не видел смерти вблизи. Я обиделся, ибо наблюдал смерть близких людей, но потом понял, что он предупреждал о своей внезапной кончине. Он про неё знал. И вправду, я никогда прежде не видел смерти в такой внезапности нападения. В полной внезапности. Как будто выпрыгнула из засады, вырвала, унесла, сделала человека невидимым.
Накануне, за столом, мне было короткое видение его похорон, но я отогнал его как досадное – брат был задорен и весел. Мы вспоминали нашего хромого отца, его любовь к книгам, сентиментальность. Вечером ходили к реке, я купался, мы сидели на крыльце и пели раздольные песни. Он знал много казацких песен: строевых, плясовых, лирических, исполнял их на старинный манер. Вот он завёл более современное, привезённое из Чехии: « Курил махорку, хороший табак, /любил девчонку донской казак…» Повздорили из-за мелочи. Помирились. Глубокой ночью страшный гром спустился в наш садик и грохотал, сотрясая стёкла, в яблонях и малиннике. С утра он почувствовал боль между лопатками. Пришла медсестра, сделала укол, боль отступила, он решил, что ничего не препятствует ехать после обеда; я дал ему в дорогу почитать роман португальца Сарамаго «Перерывы в смерти». Смерть сделала короткий перерыв, он благополучно доехал до города, по дороге шутил с женой, но едва успел выйти из машины и нагнуться над капотом, как она явилась. Понадобилось несколько мгновений для перехода в иное. Смерть разорвала уставшее сердце. Открылась беспредельность.
…
В детстве он на несколько голов превосходил меня – в задорности, остроте реакций, весёлости. Превосходил по всем статьям, ибо я был замкнутый и тихий малый. В памяти ранних лет он чаще всего там, где наш приёмный дед Василий Петрович, такой же весёлый заводной человек. Вот дед катает из свинца дробь, а брат рядом, дед мастерит капканы на сусликов, острит крючки на стерлядку, и Игорь тут как тут, дед плетёт челноком сети, и брат недалеко. Дед треплет его по вихрам, тискает. Брат фыркает, ежится, смеётся. Друг другу они говорят что-то весёлое, смешное. Дед шутейно зовёт его «друг-Колька» – ему нравился советский фильм «Друг мой, Колька» про такого же, как брат, озорного мальчонку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: