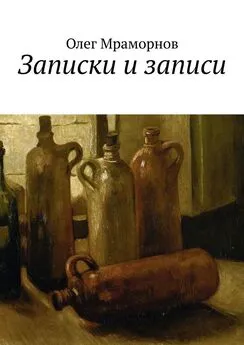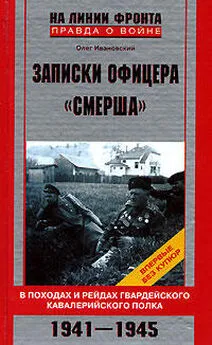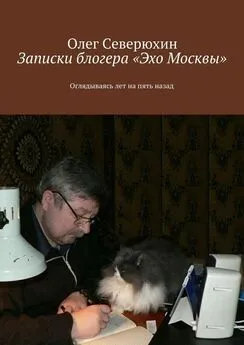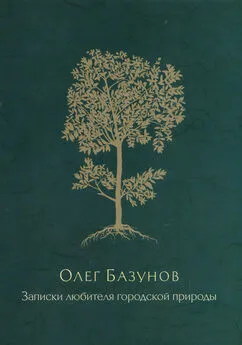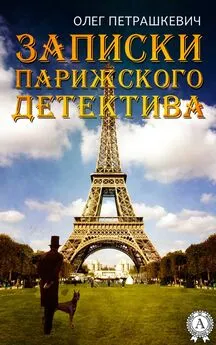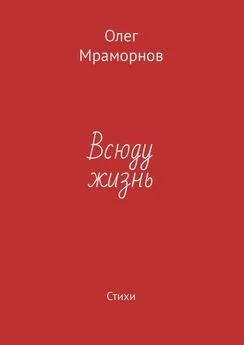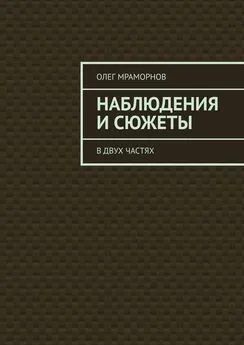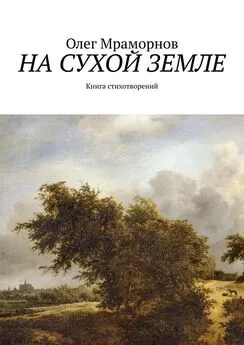Олег Мраморнов - Записки и записи
- Название:Записки и записи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449641502
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Мраморнов - Записки и записи краткое содержание
Записки и записи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я зачитался, я читал давно,
с тех пор, как дождь пошёл хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
не слышал я дождя…
И вот Рильке читает, читает, всматривается в строки, как в морщины задумчивости, – садится солнце и подступает ночь…
Но если я от книги подниму
глаза и за окно уставлюсь взглядом,
как будет близко всё, как станет рядом,
сродни и впору сердцу моему.
Но надо глубже вжиться в полутьму,
и взгляд приноровить к ночным громадам.
И ты увидишь, что земле мала
околица, она переросла
себя и стала больше небосвода,
и крайняя звезда в конце села,
как свет в последнем домике прихода.
Хотя у нас церкви и прихода не имелось, но когда я выходил ночью к околице, то не мог понять, светится ли вдали окошко крайнего дома, который стоит уже за оврагом, или это испускает лучи низко висящая над горизонтом звезда. Рильке написал про увеличение пространства, так необходимое в юности, про то его расширение, которое приходит вместе с углублённым чтением захватывающего тебя автора.
А кроме как из книг впечатлений искусства я имел мало. Когда удавалось посетить на несколько дней Москву или Ленинград, то ходил в музеи и на музыкальные концерты. Имел пластинки с записями популярных мелодий классической музыки и несколько альбомов с плохонькими репродукциями картин отечественных и зарубежных художников. Зато тесно соприкасался с фольклором, слушал народные песни в живом исполнении – люди их ещё пели.
Мой отец, работавший в конторе местного газового промысла, помог оформить на меня трудовую книжку, где написано, что я тружусь «помощником оператора по добыче газа», но разве я что-нибудь смыслил в этом деле? Не смыслил, и теперь ничего вразумительного не могу рассказать про добычу газа. Я не ездил на вахтовой машине в операторские будки, разбросанные по степным просторам, не оставался на ночные смены. Я не работал, а стаж мне шёл; не очень, надеюсь, обманывал государство, ибо денег не получал.
Вот тогда я и завёл тетрадь для стихотворений, а ещё писал сочинения на подготовительные курсы при МГУ. Кроме того, подтягивал немецкий язык, редко и без особой на то нужды помогал по хозяйству и делал прогулки к Дону. Шёл по живописной дороге вдоль реки, заходил в донской лес с его сухими запахами, ящерками и змеями, уходил далеко, к Чёрному острову, к повороту реки, где над обрывистым песчаным берегом высятся три великанских тополя, должно быть, трёхсотлетних – их мощные, узловатые, длинные корни выходят наружу и окунаются в водный поток. Кажется, они вот-вот упадут в реку, но до сих пор вода не подмыла эти деревья.
…
1970 год принёс удачу – я поступил в университет. Если бы не поступил, осенью меня бы забрали в армию, к службе в которой я себя способным не чувствовал. Судьба моя сложилась бы иначе. Но на сей раз университетский преподаватель Анна Ивановна Журавлёва (Царствие ей Небесное) поставила мне пять баллов за сочинение, в котором я допустил две пунктуационные ошибки (не выделил вводные слова). Она сочла это несущественным, а содержание ей понравилось. На устном экзамене по литературе я также получил высший балл. Меня приветил начальник подготовительных курсов при филологическом факультете МГУ Николай Иванович Герасимов. Он читал посылаемые мной на курсы сочинения, обратил на них внимание и пригласил меня домой для беседы – то был добрый человек, хорошо знающий предмет филолог старой московской школы.
Я приехал в Москву не с целью её завоевать. Я приехал, чтобы учиться. С тех пор я долго жил в столице, неплохо знаю и люблю её старую часть. Оттого, наверное, что не желал её покорять, не испытываю и чувства разочарования.
Общественными вопросами я в юности себя не обременял, был «амбивалентным», меня не слишком это затрагивало. Во мне была закрытость от впечатлений общественности. Материальной нужды я не испытывал: сыт, одет, обут. Все кругом считали, что так всегда и будет, что развитие возможно лишь в социалистическом направлении – я не перечил. Я рос в стихии патриархальной жизни и мало сталкивался с отвратительными тоталитарными чертами советского строя, поэтому, наверное, был далёк от революционных настроений. Не было у меня, надеюсь, и особого сервилизма. Проще сказать, политические рефлексии у меня вытеснялись другими. Но к вопросу о правде-истине я равнодушен не был. Случалось, что допекал отца: почему одна ваша партия должна командовать? Отец злился или расстраивался. Они, де, воевали, строили, а в партию он записался после войны и тяжёлого фронтового ранения. Тут я замолкал, а что возразишь? Партия командует, а не отец – он-то безо всякого властолюбия. И в спорах я участвовал: про революцию, про красных и белых, про Сталина, про Хрущёва, про Брежнева. Когда мне было шестнадцать лет, мы с отцом и другими заядлыми спорщиками обсуждали на местном уровне чехословацкие события. Я был против притеснения чехов.
Так вот, к вопросу о правде-справедливости. Построен новый мир, в который горячо верит мой отец. И действительно, много хорошего: люди выровнялись, деньги не играют первенствующей роли (хотя их всегда не хватает), образование и медицина бесплатные, а у нас в селении и жильё бесплатное: за газ и воду мы не платим (всё за счёт местного газового промысла), а за свет – копейки. Но почему всё переведено в социальную плоскость и упущен человек? У человека есть своя собственная проблематика, а все толкуют лишь про социальные проблемы. Обобществили человека и забыли о нём. Забыли того человека, о котором писал Бунин. Где теперь этот человек, с богатством его внутреннего мира, куда его дели? Я проявлял интерес в вопросе о предназначении человека.
…
Когда в коридорах старого здания университета на Моховой во время сдачи вступительных экзаменов я познакомился с Глебом Анищенко и Женей Поляковым, то обрадовался такому знакомству. Я не ошибся – эти литературные юноши ввели меня в свой кружок, выросший из литклуба 16-й московской литературной спецшколы, где они учились. Литклубом руководили две образованные, умеющие формулировать актуальную литературную проблематику дамы, позже они приходили и на собрания уже не школьного, а вольного поэтического кружка, с обеими меня познакомили. Ирина Петровна Кудрявцева была приятельницей Юлия Даниэля, он посвятил ей «Стихи о воде» (это посвящение почему-то отсутствует в издании сочинений Даниэля 2019 г.). Ирина Петровна переехала жить в Америку. С Полиной Ивановной Овчаровой мы дискутировали о Лермонтове.
Заметный и самый инициативный участник кружка Андрей Пагирев, на квартире родителей которого мы чаще всего собирались (его мать была из рода Лермонтовых, а отец успешным журналистом), позже написал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: