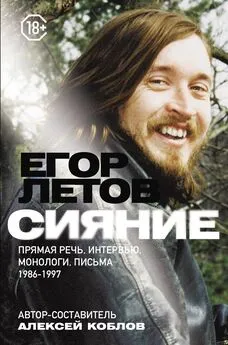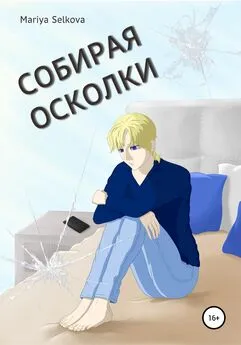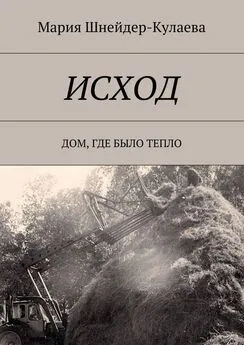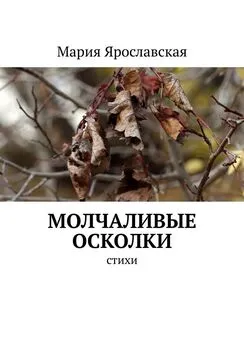Мария Шнейдер-Кулаева - Осколки Розенгейма. Интервью, воспоминания, письма
- Название:Осколки Розенгейма. Интервью, воспоминания, письма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449619228
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Шнейдер-Кулаева - Осколки Розенгейма. Интервью, воспоминания, письма краткое содержание
Осколки Розенгейма. Интервью, воспоминания, письма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дома у нас была большая русская печка, на которой спали мы с Фридрихом и бабушка. На ней было тепло и уютно. В ней готовили, еду, грели воду для стирки, купания и других нужд. За домом был огород на, котором сажали картошку, капусту, тыкву, морковь, свеклу, лук, чеснок и бобы. В конце огорода росла конопля, которую после созревания родители сушили, молотили, жарили, и мы все с удовольствием ее ели. Подсолнухи после созревания тоже обмолачивались, сушились и, при желании, жарились.
Зимой у нас в доме появлялся теленок, который нам с Фридрихом очень нравился и к тому же появлялась дополнительная обязанность ухода за ним. В нашей семье наблюдалось медленное сближение. Иногда к нам приезжал дядя Генрих из Сергиевки с сыном Густавом и дочками Ирмой и Гильдой. В их семье тоже появилась маленькая Мария. Мы все вместе играли в лапту на нашем огороде, пока на нем еще ничего не росло. Иногда и наш отец брал меня и Фридриха с собой и оставлял у дяди Генриха в Сергиевке до своего возвращения из Чумаково. Это время мы проводили очень весело.
Наши родители были работящими, много горя перетерпевшими и ко всему привычными людьми. Они выполняли любую работу с немецкой аккуратностью. Отца все называли на русский манер Иваном Осиповичем, мать – Эмилией Андреевной. Так как они оба считались рабоче-служащими, то получали две зарплаты. В колхозе в то время работали за трудодни, то есть за «палочки».
Бабушка приглядывала за мной и Фридрихом. Нам сравнялось по семь лет, и мы были вписаны в школьный список первоклассников. Мать сшила нам из мешковины сумочки. Моя сумка была с вышивкой, чтобы мы их не попутали. Одев новую одежду, мы 1 сентября 1949 года пошли в школу. Фридриха, помня о моем печальном происшествии, стали называть русским именем Федя, которое он и носил до своей кончины. С нами учились и детдомовские дети, который позднее перевели в Чумаково. Там были и немецкие дети, с которыми первый год мы держались вместе. Потом я их часто вспоминала, глядя на большое, красивое здание, которое было отдано под зернохранилище, а затем под клуб.
Вскоре я сблизилась с Катей Моор, мама которой работала уборщицей в нашей семилетней Балманской школе. Мы держались особняком. С русскими детьми держали дистанцию из боязни, что они нас будут называть враждебным эпитетами – немцы, фашисты, гитлеровцы и т. д. Мы разительно от них отличались и это отталкивало нас друг от друга. Даже не все учителя были к нам доброжелательно расположены. Еще больно отзывались в душах людей последствия войны. Они не могли, а некоторые и не хотели понять, что мы также теряли своих близких, терпели нужду, к тому же враждебность и горе. Для них мы были чужие, а попросту говоря – немцы, и это нас разделяло. Постепенно наш первый школьный год закончился. Я перешла во второй класс, а Федя остался на второй год в первом. На его успеваемости сказались знания русского языка, ведь в семье по-прежнему говорили на немецком.
На жителей села накладывался подворный налог. Каждое хозяйство за год сдавало определенное количество молока, яиц. Каждый имел книжечку, в которую приемщик вносил количество сданных продуктов под роспись. Например, взамен сданного молока мы получали обезжиренное молоко, так называемый «обрат», который наша мать проквашивала, и мы ели его по вечерам с хлебом.
Небольшая часть молока оставалась дома, мать собирала сливки из кринок в трехлитровую бутыль, пока она не наполнялась почти до верху. Эта бутыль всегда хранилась в погребе. Потом мы с Федей по очереди трясли эту бутыль, пока сливки не превращались в масло. Иногда мать вытапливала его и приправляла им обед. По утрам нам мазали маслом кусочек хлеба, который мы ели с самодельным кофе. Также охотно мы пили сыворотку, называемую еще «пахтой». Все было аккуратно и с немецкой основательностью рассчитано.
Летом мать сажала пару курочек на яички и у нас появлялись маленькие цыплятки. Когда они вырастали, молоденьких курочек оставляли, петушков и старых курочек определяли на лапшу, которую мать делала сама. Ее варили, когда кто-нибудь из семьи прибаливал или к празднику. Если кто-то приезжал в гости, то мать пекла вкусные кухен или плюшки. Белую муку родителям выдавали, как рабоче-служащим, к праздникам.
Однажды бабушка сказала, что к нам скоро приедут тетя Эмма Сайферт с сыном Виктором. Это дочь бабушки и сестра моего отца. Моя бабушка к тому времени стала совсем слабенькой, но по-прежнему опекала меня. Она нашу мать и Федю из лютеранской веры перекрестила в католическую, чтобы вера господняя в нашей семье не разнилась. Мы с Федей совершали благодарственные молитвы Богу утром, вечером, перед едой и после. Мы соблюдали посты перед Рождеством Христовым и со второго февраля до Пасхи, за что мы во время праздников получали подарки.
Утром первого дня Пасхи мы находили возле постели тарелки с крашеными яичками и конфетами. Взрослые нам объясняли, что это принес зайчик. Наши родители старались, как могли, внедрить и сохранить в наших душах ту немецкую культуру и традиции, которые были нам необходимы. Однако со временем это все катастрофически терялось из-за потери нашей малой родины и противоречивых, насильно навязанных условий. Мы жили среди русских людей и волею судьбы должны были от мала до велика этим условиям следовать. Родители должны были отмечаться в комендатуре, как преступники, не зная за какие преступления.
Летом приехала к нам тетя Эмма со своим трехлетним сыном Виктором. В трудармии она работала на укладке труб нефтепровода в городе Сызрань, где и осталась после войны. Ее муж Бенедикт Сайферт, работавший на лесоповале в трудармии, был по болезни временно отпущен к жене. За это время они соорудили себе избенку и уже после того, как он поправил свое здоровье, его вновь призвали в трудармию. В этот период 28 апреля 1947 года у них и родился сын Виктор. Однако встретиться отцу с сыном не пришлось. После второй мобилизации дядя Бенедикт заболел туберкулезом и смертельно больным был отпущен домой. 8 марта 1947 года он умер, не дожив полтора месяца до рождения сына.
После смерти мужа и рождения сына новая напасть. Домик, который они соорудили с мужем, подпадал под снос. Именно в том районе было запланировано строительство гидростанции и их домик затопили. Так тетя Эмма оказалась у нас в Балмане и мы все были им рады. Однако наше жилище было маловато для увеличившейся семьи, поэтому была куплена еще одна избушка. Бабушка была очень рада приезду дочери с внуком, но она была уже сильно больна и 23 сентября 1950 года умерла от сердечной недостаточности. После ее ухода я чувствовала себя очень одиноко. Ночами я дрожала от страха, пока засыпала. Днем ходила нерасчесанная, пока тетя Эмма не научила меня заплетать косы. Она, как могла, опекала меня, и я была рада видеть ее рядом, так как она неуловимо напоминала мне мою любимую бабушку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
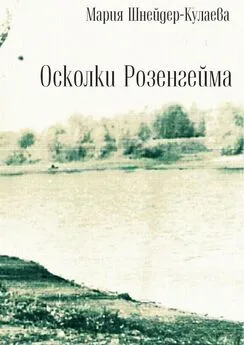
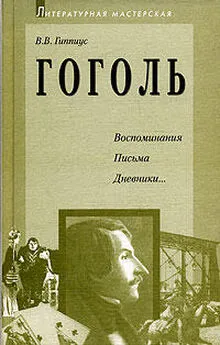
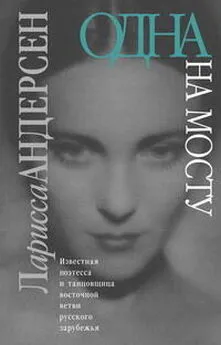
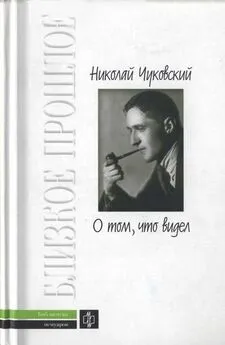
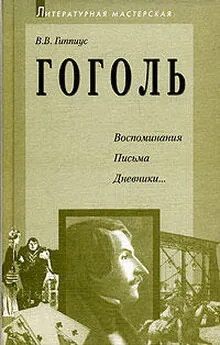
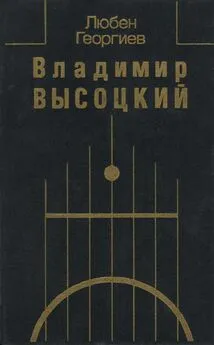
![Мария Акулова - Душа на осколки [СИ]](/books/1072574/mariya-akulova-dusha-na-oskolki-si.webp)