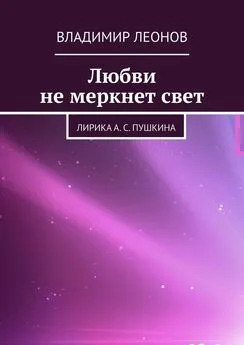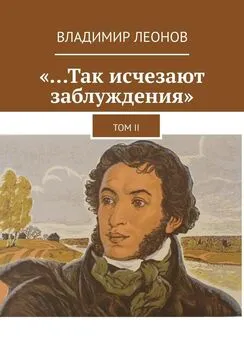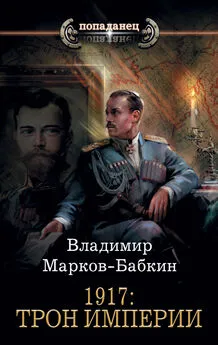Владимир Леонов - Презрел и трон, и плаху. А. С. Пушкин
- Название:Презрел и трон, и плаху. А. С. Пушкин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449618375
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Леонов - Презрел и трон, и плаху. А. С. Пушкин краткое содержание
Презрел и трон, и плаху. А. С. Пушкин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Греческий христианский мыслитель, автор термина «Богочеловек» Ориген дал толкование вопроса – что такое Бог? «Наш ум своими силами не может постичь самого Бога, но познает Отца всех тварей из красот дел и великолепия Вселенной».
А это означает, что Пушкин явил собой великолепие Вселенной под названием Россия – ведь красота дел его земных не меркнет, патиной времени не затягивается, а арапский профиль украшает стены и обложки религиозных и светских мировых культовых объектов.
«Когда же он решался быть любезным, – пишет А. Керн, – то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи». Брат Пушкина Лев дополняет: «…он становился блестяще красноречив, когда дело шло о чем – нибудь близким его душе, тогда он являлся поэтом…»
Великий мирянин России, ее поэтический пророк, вечно присутствующий в нашей жизни; живой, как ртуть, кудрявый ясноглазый человек, одетая в гранит задумчивая фигура которого возвышается на собственном духовном пьедестале:
«…Только прикоснусь к его строке —
И потонут все ночные тени
В этой вечно утренней реке…
И свечой горя в тумане тусклом,
Пробиваясь ландышем в пыли,
Каждой жилкой биться вместе с пульсом,
Русским пульсом Матери – Земли».
Переставляя своих богов, слова и образы, по усмотрению недремлющего поэтического внутренного взора, вверив себя чуткой подсознательной душевности, Пушкин воспроизводит вовне фонтан чудодейственных строк, коктейль великолепных речевых оборотов, называемых автором данных строк с очаровательной иронией» мое эгоистическое милое сумасшедствие» :
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный…
В стихах, обращенных к вечным темам и проблемам человеческого бытия, просматривается явное тяготение Пушкина к аллегоричности и притчевости, которые становятся одной из характерных черт его поэзии – лирической и трогательной, звонкой и пронзительной.
Автор в деталях, в подробностях воссоздаёт многоликое, всесильное Зло: равнодушие, безжалостность, чёрствость. В этом расчеловеченном мире людей уже нет, лишь тени, свора псов голодных, циклопы, супостаты, комья грязи. Бесконечен ряд негативных образов, создающих тягостную атмосферу: смрад, чернота, нечистоты, вонь, пустота, тлен, мрачная бездна, обоз смерти и завершающие его, грозные – неотступная старуха-смерть и царство Аида – с диким трехглавым псом Кербером.
Читатель буквально, физически ощущает «хлад осенний… до костей»; и как метафорически: как постоянное ощущение одиночества, беззащитности в мире, враждебном человеку.
Этот мотив переходит у Пушкина из физического мира в нравственное пространство, в котором он, Поэт, летописец пороков века, продуваемый гоголевскими ветрами «со всех четырех сторон», познавший убийственную силу Зла, чудовища Ахеронта, на себе, считает его разрушительным средством, растленным для души!
Над всеми образами Аида как символа униженной Души, обвинения Упырю злу возвышается образ Печальника, фигура Поэта, просящего милостыню для людей, увещевающий вывести их из отрога:
…И долго буду тем любезен я…
Что милость к падшим призывал
Образ обобщённый, многозначный. Сильный. Колоритный.
Мотив неумирающего Человека – из древнего пришедший «В тебе есть все… В тебе – извечные пути». А впоследствии с пушкинским моральным корпусом соотнесла свой «Реквием» Ахматова: « Опять поминальный приблизился час, /Я вижу, я слышу, я чувствую вас… ».
Трагизм судьбы человеческой переходит у Поэта границу тления, чтобы вернутся живым финалом, пушкинским Истинным нектаром, что присутствие Смерти дарит присутствие жизни. И История мученичества, ветхой Старухи у пепелища человека, облагороженная величием строк Пушкина, симптоматически переходит в историю подьема человеческой жизни:
Эллеферия, пред тобой
Затмились прелести другие,
Горю тобой, я вечно твой,
Я твой навеки, Эллеферия!
(Слово «эллеферия» греческое, в переводе на русский означает «свобода» – авт.)
Мировоззренческая установка Пушкина проста и не затейлива: кто не верит в себя, тот останавливается на подступах к раю: « Жизнь есть лишь то, что ты думаешь о ней» ( император Рима и философ по совместительству М. Аврелий). У поэта своя судьба, своя доля и своя мечта- смотреть на мир глазами счастливых людей, потому что у них соблазны и вожделения не подавляют увлеченность, страстность и развитие и во всякой неудаче они видят новый опыт, новую мораль, новое поученье: « Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, но в том, чтобы уметь подняться всякий раз, когда падаешь».
Творит огненно и остро, живет азартно, проявлением эмоций, настроений – не цепенеет, внося в мир свои неповторимые пушкинские стили – воспевание незримой связи звезд, пространства и человека:
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Да таким проникновенным и чувствительным словом, когда хочется ему душу отворит, чтобы растворилась печаль, вернулась ласточкой молниевидной изьятая из жизни весна и почувствовать как светла жизнь и так красива, будто на белый снег упали янтарные грозди рябины. Словно вкушаешь молодильные яблоки Гесперидова сада и ощущаещь, что опрокидывается на тебя полный ковш живой воды, берущей начало в новозаветных преданиях. А память вытаскивает из своих дальних сусеков высказываник Ф. Ларошфука, точно выражающих суть описываемого состояния:
« Ветер задувает свечу, но раздувает костер».
Высвечивая мифопоэтическую изнанку обыденного мира, изгоняя из него буквализм – это искусственное гетто- Пушкин увязывает надежду человека не с филологически трепетными изысканиями, а с хирургическим вмешательством, когда анатомическим ножом вскрывается боль, слепящая свет, и с гальваническим прорывом в потаенные уголки души:
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
В авторском исмыслении, поэт поднимает на высоты запредельные мысль следующего исторического чертежа:
«…каков дух времени и каковы люди стали. На крапиве не родится виноград, из лжи не выведешь правду; из смешения лени, равнодушия, невежества с безумием и развратом не возникает сам собою порядок. Что мы посеяли, то и должны пожинать. Всем неравнодушным к правде людям очень темно и тяжело, ибо, сравнивая настоящее с прожитым, давно прошедшим, видим, что живем в каком-то ином мире, где все точно идет вспять к первобытному хаосу, и мы посреди всего этого брожения чувствуем себя бессильными».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
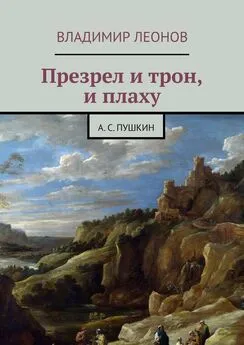
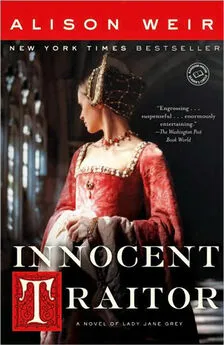
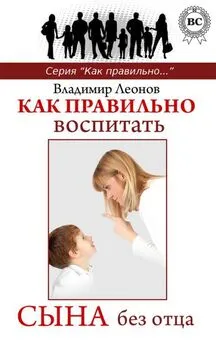
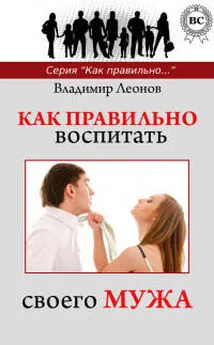
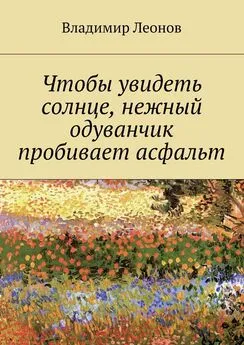
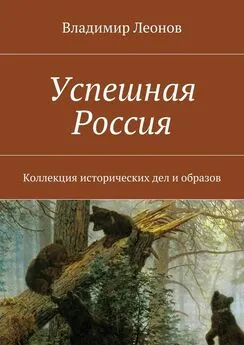
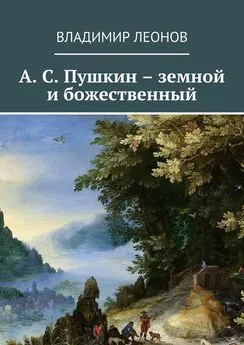
![Владимир Марков-Бабкин - 1917: Трон Империи [litres]](/books/1073619/vladimir-markov-babkin-1917-tron-imperii-litres.webp)