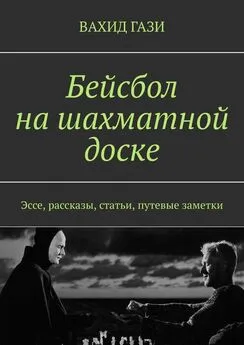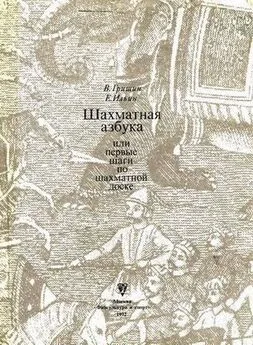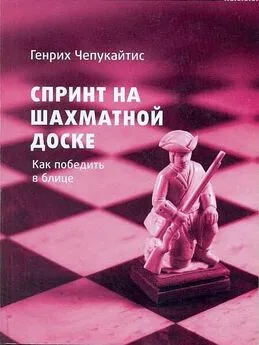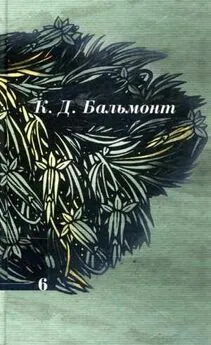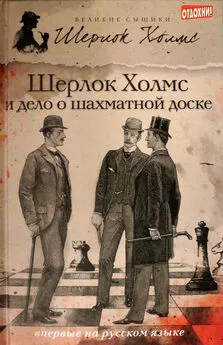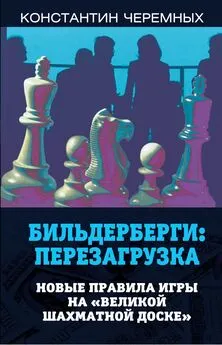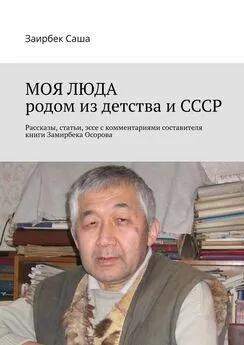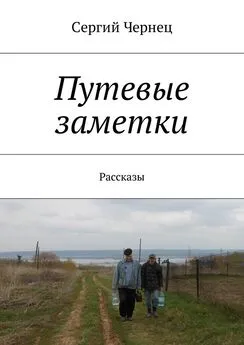Вахид Гази - Бейсбол на шахматной доске. Эссе, рассказы, статьи, путевые заметки
- Название:Бейсбол на шахматной доске. Эссе, рассказы, статьи, путевые заметки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449394187
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вахид Гази - Бейсбол на шахматной доске. Эссе, рассказы, статьи, путевые заметки краткое содержание
Бейсбол на шахматной доске. Эссе, рассказы, статьи, путевые заметки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зайти в кибитку и набить мешок продуктами было просто, сложнее было пронести «трофей» из палаточного городка (впоследствии здешние люди станут обитателями совсем другого палаточного городка) в «военный лагерь». Как правило, набег совершался в палатку бабушки, ибо вход в нее был широко открыт, как и сердце ее хозяйки. В отличие от других палаток бабушкина не «оберегалась». Но при выходе приходилось пройти мимо нескольких других временных жилищ и многочисленных острых на глаз женщин. Опытные разведчики хорошо справлялись с этой задачей.
Порой мы совершали «миротворческие» визиты в Дамганлы. Деревня «сдавалась» нам без боя. Армянские мальчики, наши ровесники, ненавидели нас, но отступали будто перед солдатами «армии победителя». Мы не совались в эту деревню без двоюродного брата Эльшана – самого старшего среди нас. Если с нами был Эльшан, они нас боялись, а без Эльшана их боялись мы.
Как только в наших карманах появлялась пара манат, мы чинно заходили в магазин, к тому же не на деревянных лошадках, принимающих участие в наших военных походах, а с машинами из проволоки. Говоря сегодняшним языком, самой крутой тачкой была та, у которой красовались ночные фары из пузырьков из-под пенициллина. Одежду тоже приводили в порядок, ведь мы шли в деревню армянских девочек, которым лукаво подмигивали у родника.
Все эти военные походы и миротворческие визиты подытоживались большим пиром в нашем лагере – трапеза тех, кто покорил все земли от монастыря́ и до деревни. Чего только тут не было? От лемберанского арбуза до аскеранского лимонада, отварной ходжалинской картошки до печенья «Спорт» и «Барбариса», порой даже появлялась жареная курица и степанакертское мороженое. Настоящий пир победителей.
Субботы с воскресеньями проходили дружно и шумно. Из города приезжали многочисленные родственники, друзья и приятели. И все на машинах, груженных продуктами. Арбузы и дыни чуть ли не падали с кузова. Изобилие порождает страсть – случалось, и не раз, что мы пускали арбузы катиться вниз по склону.
Дымил самовар, потрескивал костер, тлели угли в мангале.
Когда не было посторонних, накрывали одну большую скатерть, а когда приходил кум – лесничий Шахин и другие посторонние гости, накрывали три скатерти: для мужчин, женщин и детей. Рассказывали, что кум Шахин однажды повстречался в лесу с медведем и убил его. Может, так оно и было, а может, это проистекало от желания армян мифологизировать Шахина в качестве выдающегося героя – «Наш Шахин задаст трепку десяти мужчинам, он самого медведя в лесу придушил!»; ведь местные армяне впадали в уныние от каждого появления тюрков-мусульман, которые на протяжении долгих лет приходили в эту местность летовать.
Кум Шахин никогда не приходил с пустыми руками. Он приносил всякую добычу из находящегося под его распоряжением бескрайнего леса, приносил из реки сетки с форелью. Конечно, доставал и тутовку из чухи. Я уплетал пойманную им речную рыбу с аппетитом. Так как сами мы рыбу ловить не умели. Рыбы в Хачынчае походили на Гюльчатай – героиню знаменитого фильма, которая ненароком выронив чаршаб, от стыда натягивает юбку себе на голову. Речная вода была столь чиста, что, казалось, рыбы в этой прозрачности стыдятся посторонних глаз, потому они либо вонзались в ил бешеным скачком и мутили воду либо прятались среди камней.
Однажды лесничий Шахин принес косулю. Она была меньше джейрана и чуть крупнее ягненка. Он сам ее освежевал, сам зажарил. С того самого дня я возненавидел и его самого, и его коня рыжей масти, и винтовку, которая до тех пор приводила меня в восторг. Вот уже немалое время я наблюдал издали, из нашего «лагеря» в лесу одну косулю, которая каждый день в одно и то же время приходила отпить воды у одной и той же речной заводи. У нее был робкий взгляд, трепетная поступь. Между ней и мной возникли особые отношения, напоминающие присущую нынешним временам виртуальную любовь по интернет-чатам. А сейчас группа мужчин, включая моего отца, поедали мясо маленькой косули, вполне могущей оказаться именно той самой – «моей». Это стало первым «кровавым» пиршеством в моей жизни. В ту ночь, лежа на допотопной железной кровати в бабушкиной палатке, я заснул со слезами на глазах.
Утром я проснулся с мокрым лицом. Но то были не слезы. Ночью начался дождь. Для меня нет естественного, природного звука, точнее шума роднее и ближе, чем звук дождевых капель, барабанящих о брезентовую крышу палатки. Капля дождя, просочившись сквозь тугие нити палатки, разбилась на тысячи осколков и оросила мое лицо. Вот так наступило мое очередное счастливое утро в Карабахе…
Но ни этим днем, ни в другие дни я больше так и не встретил «свою» косулю.
Октябрь, 2011
Хызы, Азербайджан
Эссе из цикла «Люди и книги»
Пазл-мозаика сломанных судеб
О Светлане Алексиевич и ее книге «Время секонд хэнд»
Начну с того, что я не из числа обвиняющих членов Шведской Королевской Академии в преследовании неких «темных» целей. Они хорошо знают кому выдавать Нобелевскую премию. Я в свою очередь знаю, что премия в соответствии с волей ее учредителя дается литературе, завоевавшей успех с учетом политико-идеологических мотивов.
Я ждал награждения Светланы Алексиевич «нобелевкой» еще два года назад, когда ее имя входило в список кандидатов.
Будучи знакомым с ее биографией, темой ее книг, я ощущал некую близость к ее личности – имена других кандидатов ничего мне не говорили. То, что некогда мы являлись гражданами одной страны, схожесть судеб, несмотря на то, что впоследствии мы стали жить в разных странах – всё это, на мой взгляд, составляло основную причину этой близости.
Премия дана ей за пятитомную художественно-документальную хронику «Голос утопии», которую она писала на протяжении десятилетий. За то, что она воплотила масштабное историческое повествование из небольших рассказов «маленьких людей», повествующих о собственной судьбе.
Ее выступление на церемонии награждения, слова, сказанные на круглом столе, организованном Шведским каналом SVT-2 при участии других «нобелиатов», тронули меня за душу, как и каждого, кто ее слушал. Казалось, она говорит именно обо мне; о том, что мне пришлось услышать и увидеть, о моих воспоминаниях и мыслях, о моей судьбе.
На круглом столе Светлана Алексиевич провела замечательные параллели между писателем и журналистом, художественным произведением и публицистикой. Награждение ее «нобелевкой» было встречено неоднозначно – нашлись люди, назвавшие ее тексты «публицистикой» (Во время последней нашей Национальной Книжной Премии против автора этих строк тоже выдвигали подобные претензии за книгу «Чамайра. Кубинская тетрадь»). На все эти обвинения она ответила коротко и ясно:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: