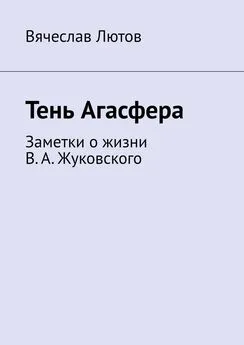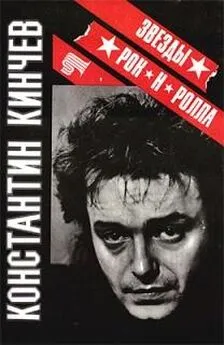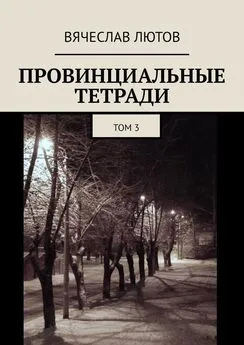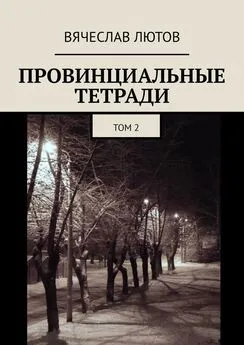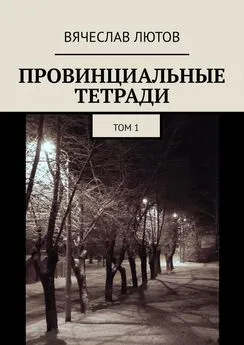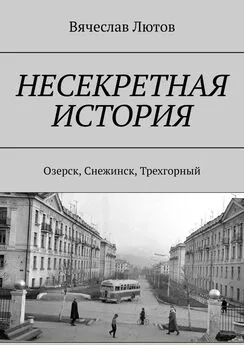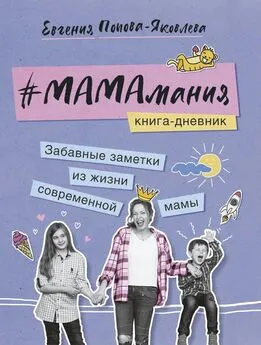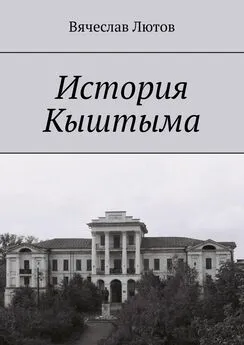Вячеслав Лютов - Тень Агасфера. Заметки о жизни В. А. Жуковского
- Название:Тень Агасфера. Заметки о жизни В. А. Жуковского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449390318
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Лютов - Тень Агасфера. Заметки о жизни В. А. Жуковского краткое содержание
Тень Агасфера. Заметки о жизни В. А. Жуковского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Благоговение рождает тишину, молчание. «Племя молодое, полное кипеньем» теперь лишь пугает его, смущает своей резвостью «сумрачного пустынника», который смотрит на мир грустными глазами. Время уходить. Время улетать царскосельскому лебедю…
Вяземский, получив «Лебедя» (последнее стихотворение Жуковского), писал ему в Баден: «Ах ты, мой старый лебедь, пращур лебединый, да когда же твой голос состареется? Он все свеж и звучен, как и прежде. Не грешно ли тебе дразнить меня своими песнями, меня, старую кукушку… Стихи твои прелесть. „Лебедь“ твой чудно хорош…»
Ныне в Летнем Саду на пруду плавают два лебедя с подрезанными крыльями – как музейные экспонаты (во всем подстать Петербургу), для красоты, для идиллии. Они только и прекрасны тем, что улететь не могут, что обречены до скончания дней трепать клювом свои пожелтевшие перья.
Что может быть хуже и тоскливее «лебединого пращура»?
И что ему остается? – разве помянуть спутников давнишних, всех тех, из кого ты был соткан…
ДОМАШНИЕ. романтика рождения. Детский рисунок. Смерть матери. Юшковы: Дуняша и Аня
* * *
Первый и главный парадокс жизни Жуковского, по его собственному же признанию, – в ее «необыкновенной обыкновенности». Странно, что исследователь оказался не насторожен подобным откровением, хотя и прочел это как обычную жизнь необычного человека, и, может быть, даже усомнился – так ли уж обычна, так ли уж обыкновенна? Не может поэт довольствоваться обычностью своей биографии – это уже устоявшееся суждение, требующее определенного жизнетворчества.
Не нужно обижать поэта – и, как доказательство нетривиальности его судьбы, появляется то самое богатство внешних биографических фактов, призванное засвидетельствовать кипение его жизни. Но… факты были – кипения не было.
Это немного похоже на разбойничью пещеру, куда случайно попал Али-баба – нагромождение драгоценностей, золота и серебра, всей богатой утвари, покрытой паутиной, лишь подчеркивает тишину и безмолвие, роковой ужас самого места. В Жуковском за внешним биографическим богатством его слишком долгой и загроможденной людьми жизни вдруг возникает извечная покойность Обломовки: «Ни тревог, ни потрясений в том краю»; все в полусумраке и дреме. Даже личная боль не способна все перевернуть вверх дном – она лишь притупляется, хоронится на глубине души – и эти захоронения называют «силой воли».
В продолжение парадокса скажем: странно, что в жизни поэта-романтика ничего собственно романтического не было. Герои Жуковского – как бы ему противоположность; они достраивают то, чего лишен их автор, они совершают то, что автор совершить не в силах. Единственное, что, может быть, и соответствовало действительности – так это романтическая меланхолия, уединенность – в беседке, увитой плющом, в парке на берегу реки; она, конечно, романтична, но разве способна принять Громобоя или Лесного царя, если бы они вдруг ожили?
Среди уединенной, размеренно-спокойной прозе жизни для души романтичной все-таки есть одно счастливое исключение – история его, Жуковского, рождения.
Но и в этом судьба, наградив его столь занятными обстоятельствами появления на свет, все же сыграла с ним свою шутку – ничего случайнее и романтичнее, но вместе с тем обыкновеннее, обыденней, объяснимее, придумать было нельзя…
И. А. Бунин, через сто лет после Жуковского, с гордостью записывал в своей автобиографии то, что в его роду был прекрасный русский поэт. И все же, по большому счету, гордился именно случаем , принесшего Жуковского именно в старое дворянское бунинское гнездо.
Афанасию Ивановичу Бунину, Мишенскому помещику (село Мишенское неподалеку от городка Белева, затерявшегося между Калугой и Орлом), обыкновенному незлобивому провинциальному любителю женских подолов, друг его, некий бравый офицер, участник турецкой кампании, сделал занятный «подарок» – двух пленниц, двух сестер, турчанок из гарема паши, Фатьму и Сальху.
Первая, младшая, скоро умерла – не перенесла тяготы чужбины; а к последней, Сальхе, новокрещенной Елизавете Дементьевне, и стал хаживать наш Афанасий Иванович, а вскоре и вообще перебрался от семьи к ней во флигель…
Вся «романтичная» история с плененной турчанкой настолько известна, что пересказывать ее вроде бы и смысла нет. Как, по сути, нет и самой романтики в происшедшем – турецкая кровь текла не в одном Жуковском (в братьях Аксаковых, например); так что говорить об исключительности события не приходится.
«Плодами же греха и обиды», чем, собственно, и был наш герой, тем более в России никого не удивишь – любой дьяк все «несуразности и двусмысленности» исправит за четвертной.
Суть в другом.
Весной 1783 года Сальха взяла младенца, «принесла его прямо в господский дом и положила на пол у ног Марьи Григорьевны Буниной, не сказала ни слова и лишь выражала своим видом беспредельную покорность » /1.10/.
Говорят, что этим она хотела примириться с хозяйкой Мишенского, да и выбирать ей было особенно не из чего – вот и отдала, отказалась. Нам же остается лишь печально вздохнуть и спросить: может быть, еще «что-нибудь» родилось в те дни вместе с Жуковским?
Марья Григорьевна пообещала его воспитать как родного…
Афанасий Иванович «усыновлять» младенца не стал (два поэта Бунина для русской литературы – перебор). Сговорился со своим другом, «полуприживальщиком», обедневшим помещиком Андреем Григорьевичем Жуковским, который, крестив новорожденного, записал его на свое имя.
След Андрея Григорьевича, «отца», теряется еще в детстве поэта.
Да и само детство затерялось в счастливо-провинциальной дворянской усадьбе. Васенька, Базиль, был окружен любовью, жил среди женской ласки и балования, «рос барчонком»; вокруг мамки, няньки… Его пестовали, ему ни в чем не отказывали; природа, травы, орловское раздолье его лелеяли. Впрочем, даже в историческом времени, до божедомских достоевских, казенных мальчиков куприных, купоросных горьких и нищих надсонов было еще очень далеко. Пока детство русской литературы было идилличным – и Жуковский не был исключением из среднепоместного счастья.
Но ущемленность свою все равно чувствовал.
В дневнике 1805 года записано: «Не имея своего семейства, в котором я бы что-нибудь значил , я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что был перед ними выращен, но не видал родных , мне принадлежащих по праву; я привык отделять себя от всех … Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем ».
Борис Зайцев называет эту запись преувеличением /3.33/, соглашусь и я: приговор-то для домашних слишком неутешителен и жесток.
Только ведь дыма без огня не бывает, и такая «черная сыновья неблагодарность» рано или поздно обеливается – уже хотя бы так странно сложившимися обстоятельствами младенчества и детства: родители живы, а он словно вне их. Афанасий Иванович, правда, рано уйдет из жизни Жуковского – оставит по себе ощущение красоты службы и трепетную умиротворенность сельских кладбищ, но две матери – рядом, сводные сестры и племянницы – здесь же. Все – его и словно не его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: