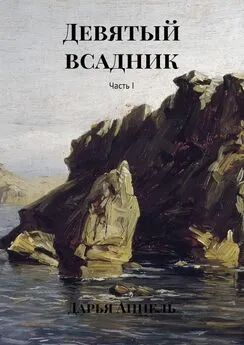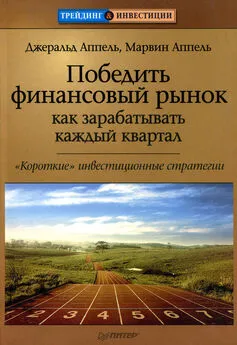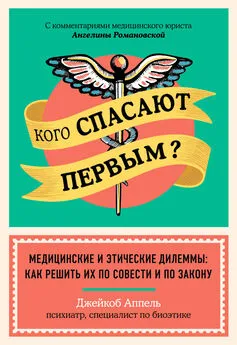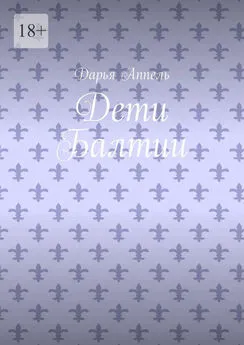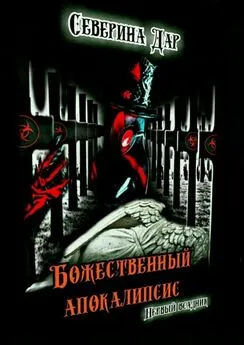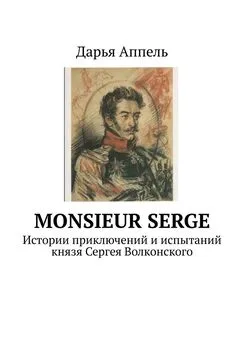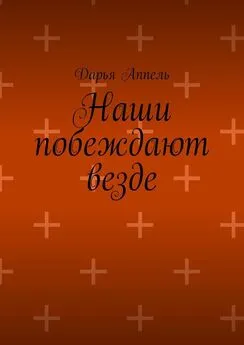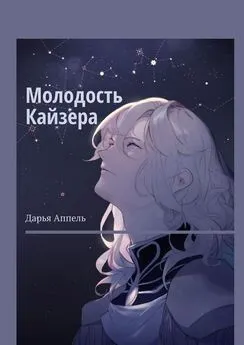Дарья Аппель - Девятый всадник. Часть I
- Название:Девятый всадник. Часть I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449077899
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дарья Аппель - Девятый всадник. Часть I краткое содержание
Девятый всадник. Часть I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
…Нынче, когда я сделался важным генералом, от одного мимолетного взора которого любой станционный смотритель готов немедленно выдать мне лучших лошадей, я не забыл себя тогдашнего, белобрысого мальчишку в вылинявшей, доставшейся от старших братьев курточке, цепляющегося за юбку матери, которая униженно выпрашивала у жирного смотрителя дать ей хоть последнюю клячу. Она держала на руках моего разболевшегося ушами и оттого постоянно хныкающего младшего братика и чуть ли в ноги смотрителю не кланялось, а тот важно, свысока, бросал: «А что я могу сделать? Ждите, барыня». Тогда я впервые испытал болезненное, жгучее чувство стыда за нашу нищету и низкое положение.
В 1803-м, кажется, мы с Пьером Долгоруковым, проезжая через Белосток, увидели на почтовой станции совсем бедную женщину, по всей видимости, вдову, с двумя слугами и спящей на руках девочкой лет трех. Князь отправился требовать себе лошадей, но я дернул его за рукав и заставил уступить нашу очередь этой даме. Она – по чистой случайности или по воле судьбы – оказалась тоже остзейкой, кричала мне вслед «Herr Excellenz! Danke schön!» что заставило потом Пьера в очередной раз пройтись на избитую тему «немцы тащат немцев». Но в тот миг, когда я ей помог, я вновь вспомнил себя чумазым мальчишкой на дороге из Киева в Ригу, и иначе поступить просто не мог.
Когда мы приехали в Ливонию, оказалось, что мой батюшка рассорился со всей своей родней, которая – в отместку ли ему или по причине собственной обездоленности – отказалась нас принимать даже на время. Матушка поселилась у одного из сослуживцев отца, потом смогла снять дом в Задвинье – скверном рижском предместье, где мы и прожили два года в полнейшей безвестности и бедности. Дом наш находился на самом берегу Двины и был выстроен чуть-чуть поосновательнее крестьянской избы. Подвал почти полностью уходил в песчаную почву, там, помнится, водились мокрицы и жабы, которых жутко пугались мои сестры. Вдалеке, за рекой, можно было увидеть рижские шпили и пузатый замок губернатора, – тот мир, в котором нам ход заказан. Хотя время от времени то ли наша нянька, то ли матушка говорили, что «не того мы заслуживаем». И тогда в ход шли легенды о древности фон Ливенов, о нашей старой крови, о том, как засевшие в «большой Риге» потомки купцов носят незаслуженные гербы. Я слушал все эти разговоры. Смотрел на себя и на своих тогдашних товарищей по играм – латышских мальчишек – и не видел особых различий. Кровь же из наших разбитых локтей и коленок текла абсолютно неотличимая на вид – ярко-алая. Мы даже одевались похоже – нищета уравнивает господ со слугами.
Итак, мое детство ознаменовалось полными – и подлинными egalité et fraternité с теми сословиями, которые кое-кто зовет «чернью». С тех пор мне невозможно считать крестьян или слуг ниже себя, а тем паче, приравнивать их к бессловесным тварям, как делает кое-кто из моих русских и британских знакомых, даже те, кто полагает себя «просвещенными людьми».
С ту пору с грехом пополам пыталась учить сама матушка, – если нет средств на мясо, на сапоги и на новое платье, откуда будут деньги на школу и гувернеров? Грушен – то самое «заглазное» имение – продали, но выручить за него хорошие деньги не удалось. Еле-еле удавалось закупать дрова, самые плохие, тепло от которых не могло отогнать постоянной сырости и холода с реки, проникающей в кости. Не с тех ли времен моя ненависть к пресловутой Kurländische wetter, которая на моей исторической родине стоит девять месяцев в году?
Мой старший брат Карл пытался заменять отсутствующего мужчину в доме, но что мог 14-летний отрок? Как и отец, он пытался втолковать нам те начатки математики, которые сам успел усвоить, но он отличался очень горячим и нетерпеливым нравом, поэтому вялыми отцовскими пощечинами дело не ограничивалось. Когда Карл в одно прекрасное утро избил меня за непонятливость и дерзость так, что я потом три дня ходить не мог и мочился кровью, матушка строго положила конец этому, с позволения сказать, образованию.
Так бы мы и прозябали в нищете и безвестности, если бы осенью 1783-го не случилось то, что вошло в анналы нашей фамильной истории: «Благородная вдовица восстановила померкшую славу мужнего рода». А точнее, матушка неожиданно попала «в случай», как тогда говорили. Die Alte Keizerin, как мы называли Екатерину Великую, став многократно бабкой, решила найти честную и непредвзятую женщину из своих прибалтийских подданных, дабы воспитать своих внучек достойными особами. Она обратилась за сим к губернатору Риги фон-Броуну, а тот вспомнил о моей матушке. Губернатор приступил к ней с предложением; ее пришлось долго уговаривать. Более всего матушка беспокоилась за нравственность моих сестер – да и за нас в целом. Слухи о том, что творится при «Большом Дворе», ходили страшные – мол, и древние римляне бы покраснели, узнав, что творит «эта Мессалина», как недоброжелатели называли Alte Keizerin. Вняла требованиям и мольбам фон-Брауна она только после того, как тот заприметил нас с Йоханом, бегающих по дому босиком, и указал матушке на это. Я ничего этого не помню – ни визита, ни почтенного старика Броуна – все по рассказам матушки, с каждым разом обрастающим все большими подробностями. «Ради них», – и она указала на нас, – «Я и соглашаюсь». После этой эпохальной речи ее отвезли в Петербург, на аудиенцию к самой государыне, где матушка, ничуть не стесняясь, успела нажаловаться одному из придворных на сложность предстоящей ей задачи: мало того, что она не знает даже французского, считающегося обязательным для любой гувернантки, – она понятия не имеет, каким образом воспитывать юных девиц в «этом вертепе». Матушкины ламентации подслушивала сама государыня, которая нисколько не разгневалась (о, воистину мудрая женщина!), а заверила, что ни будущая гувернантка, ни ее дети ничего «такого» не увидят, и что она, баронесса Шарлотта-Маргрета фон Ливен, – именно та женщина, которая ей нужна. Через месяц нас забрали из нашей избенки в Петербург. И началась блистательная жизнь. О бедности можно было забыть навсегда. Но настало другое.
Нас записали в хороший полк, но перед тем, как начать службу и выйти в жизнь, нам предстояло проделать нелегкую работу – превратиться из «неотесанных» в competentis, чтобы не стыдно было показываться в высшем обществе. Матушка, конечно, и до того проделала великую работу, привив нам начатки манер, такта и светской сдержанности, а еще больше – упорства и трудолюбия. Дело оставалось за малым – за знаниями и умениями, приличествующими аристократам. За краткие 5 лет я выучился всему, что знали мои друзья, детство которых протекало в более тепличных условиях – свободно болтать по-французски и не столь свободно – по-русски, разбирать латынь, а также снова занялись военными упражнениями, которые стали более интенсивными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: