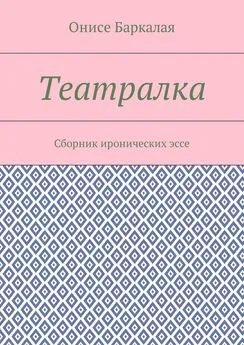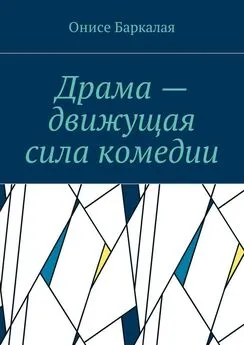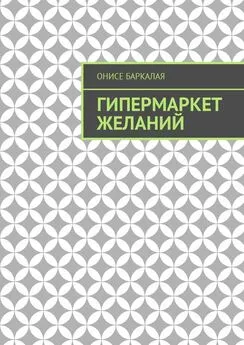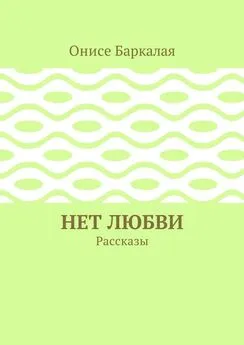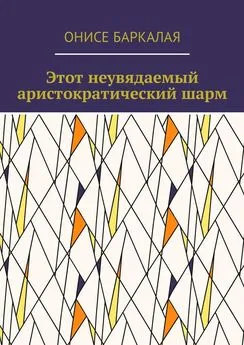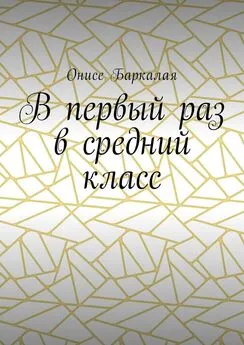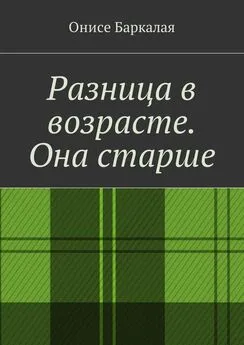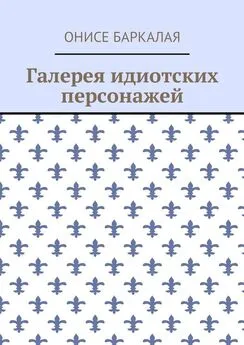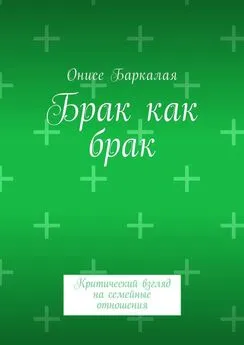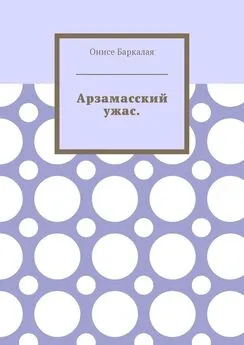Онисе Баркалая - Театралка. Сборник иронических эссе
- Название:Театралка. Сборник иронических эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449030481
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Онисе Баркалая - Театралка. Сборник иронических эссе краткое содержание
Театралка. Сборник иронических эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как раз ресторан с восхитительным названием Ренессанс будет знаменовать для «прелестнейшей Ванды» окончание черной полосы, возрождение… в некотором смысле (рассказ А. Чехова «Знакомый мужчина»), когда из одной крайности она попадает в другую. Оказавшись без средств, ей придется в ссудной кассе заложить кольцо с бирюзой – единственную свою драгоценность. «Хоть бы мужчину знакомого встретить… – думала она. – Я взяла бы денег… Мне ни один не откажет, потому что…». Но на первых порах все для нее складывается неудачно, и в том числе визит к знакомому зубному врачу. «Впрочем, на другой день она уже была в «Ренессансе» и танцевала там. На ней была новая, громадная, красная шляпа, новая модная кофточка и туфли бронзового цвета. И ужином угощал ее молодой купец, приезжий из Казани». Как весело было там!
«Режиссер пригласил меня в ресторан, и не куда-нибудь, а в «Лидо» – говорит красавица-каскадерша своему ревнивому партнеру по трюкам (у них все сложно) в фильме «Чудовище» (режиссер К. Зиди, 1977 г.). Но герой Ж.-П. Бельмондо устроит ей в этом блестящем парижском ресторане! Как эффектны в фильмах (и в литературе) сцены в ресторане! «Сияющий чистотой и любезностью распорядитель (ресторана) сделал скромный и изысканный жест в дальний угол…» (из рассказа И. Бунина «Ида»). Какими многочисленными деталями может быть насыщено действие и наполнена мизансцена! Снующие между столиками ловкие официанты, экзотические яства, длинные сигареты, женщины в потрясающих нарядах, завораживающее варьете на сцене. А лица, характеры, типы, томные и страстные взгляды!.. Не потому ли ресторан так манит нас. Он по своей сути и форме напоминает настоящий театр.
Какие названия в советское время давали ресторану? Уж точно не «Ренессанс». «Плакучая ива». Какая неописуемая сцена в «Бриллиантовой руке» (режиссер Л. Гайдай, 1968 г.)! А где бы ни был наш благородный класс из прежней эпохи, в Париже или незадолго до эмиграции – в Ялте, везде его можно видеть в ресторанах («Новые приключения неуловимых», «Корона Российской империи», режиссер Э. Кеосоян, 1968 г., 1971 г.). В них выступают неподражаемый Буба Касторский (Б. Сичкин) и несравненная Аграфена Заволжская (Л. Гурченко).
«Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви». Герой рассказа И. Бунина «Ида», пригласив друзей в ресторан («Большой Московский»), намерен, как он говорит, «пировать». «И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с шампанским». Но дело в том, что «пир» по своему определению, как объясняла экскурсовод в Эрмитаже, это не просто вкусная трапеза с бесчисленной сменой блюд. Это действо, возбуждающее палитру эмоций, которую человеку дают зрелище, флирт, танцы, любовные записки… Ничего этого, помимо, разумеется, отличного стола, и не будет в тот час в «Большом Московском». Однако отсутствие женщин, флирта, ухаживания и танцев «компенсируется» пронзительной, щемящей историей о чувствах, о любви, рассказанной героем. О том, как просто не заметить, упустить свое счастье. «И давайте по сему случаю пить на сломную голову! Пить за всех любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки и все же навеки связаны самой страшной в мире связью!».
Подозреваю, что некая зависть к той неповторимой ауре ресторана (которая была заимствована у античного пира) заставляет владельцев скучных заведений (где мамочки умиляются хорошему аппетиту детей, а папочки скрывают зевоту) позиционировать их как «семейные рестораны». Я не против подобного «формата», но вещи, как мне кажется, надо называть своими именами. В «семейном ресторане» едва ли возможна природная интрига между мужчиной и женщиной, исключены тонкие шутки, комплименты на грани фола – одним словом, 6+. Между прочим, в стихотворении А. Блока «В ресторане» нет ни одной строчки о восхитительной закуске или возбуждающих напитках – все сосредоточено на той самой интриге между мужчиной и женщиной.
Подобно тому как сейчас, после краха коммунизма, любой техникум или институт средней руки помпезно называет себя университетом, так и любое кафе меняет вывеску, называясь рестораном. И как в пятизвездочном отеле не может быть трехзвездочного ресторана, так и у черта на рогах, где-то на трассе, не может быть «ресторана „Придорожный“». Этот лукавый трюк никого не должен обмануть. Ведь любое подобное заведение может оказаться под беспощадным взором писателя, которому сразу ясно, что речь идет всего лишь о столовке. «Основная часть столовой лидингтонского отеля „Мидлэнд“ – большой зал, и хотя ее стиль свидетельствует о нелегком компромиссе между индийским дворцом и муниципальной баней с бассейном, она пользуется большой популярностью и почти всегда заполнена до отказа. Пальмы, водруженные в центре, служили маскировкой для тележек с сомнительными закусками, компотом, драченой. Трио изможденных дам исполняло мелодии Ноэля Коуворда и другие шедевры нашего века» (из рассказа Дж. Пристли «Случай в Лидингтоне»).
Сказать, что советская система была противоречивой, – значит ничего не сказать… Даже если не принимать во внимание тот факт, что раньше всякая «стекляшка» могла считаться рестораном («Парковый», «Восход», «Маяк»…), это заведение никогда не считалось «благонадёжным». Невысокая заработная плата большинства советских граждан не только не позволяла бывать там часто, так ещё и общественное мнение было настроено против ресторанов. Тамошнее общество – тучные работницы советской торговли, торговцы-кавказцы с рынка, моряки загранплавания, фарцовщики с ярко накрашенными женщинами – завсегдатаи ресторанов и вся царящая там атмосфера как-то не особенно вдохновляли… И если в западном кино устоялся стереотип ресторана как символа красивой жизни, благополучия, веселья, любви (что может быть романтичнее похода в дорогой ресторан?), то у нас ресторан символизировал скорее классовую неблагонадёжность и чуждую буржуазность. Многие сцены, в которых персонажи белогвардейцы, бандиты, нэпманы, спекулянты, аферисты, агенты иностранных спецслужб, «морально разложившиеся», в том числе и «отец русской демократии, прибывший из Парижа», непременно происходят в ресторанах.
Но времена изменились… прежних тесных рамок советских стереотипов уже нет, как и самой советской системы. Я иду по Невскому… «Европейская», «Кемпински», «Невский палас», «Палкин»… Красивая жизнь, черт побери!
«А в ресторане, а в ресторане» веселье, танцы, волнение, независимо от того, что происходит: вечеринка представителей «высшего общества» или корпоратив небольшой фирмы, на котором через час после начала застолья начинается караоке – зрелище и музыкальный шум не для слабонервных… «А в ресторане, а в ресторане» легко почувствовать себя бонвиваном, светской красавицей, как раз там галантно ухаживают мужчины, прислуживают, стоят навытяжку официанты… можно оторваться от суеты и просто оторваться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: