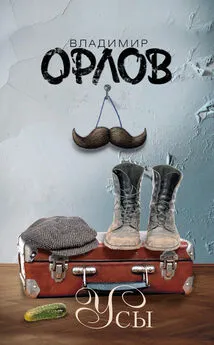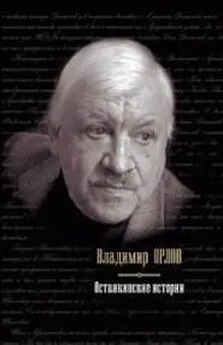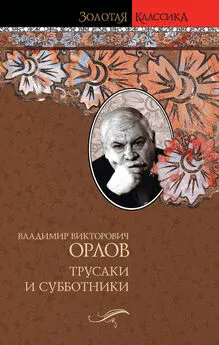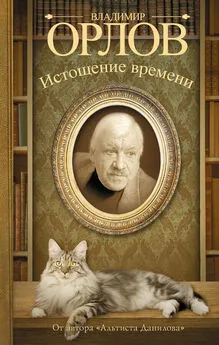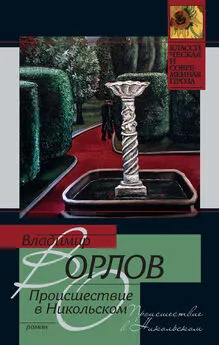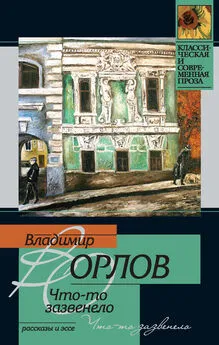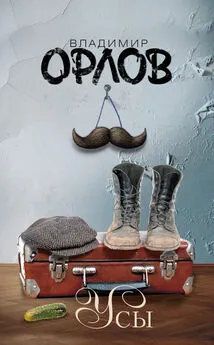Владимир Орлов - Усы (сборник)
- Название:Усы (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Орлов - Усы (сборник) краткое содержание
Это необычная книга, как и все творчество Владимира Орлова. Его произведения переведены на многие языки мира и по праву входят в анналы современной мировой литературы. Здесь собраны как новые рассказы «Лучшие довоенные усы», где за строками автора просматриваются реальные события прошедшего века, и «Лоскуты необязательных пояснений, или Хрюшка улыбается» – своеобразная летопись жизни, так и те, что выходили ранее, например «Что-то зазвенело», открывший фантасмагоричный триптих Орлова «Альтист Данилов», «Аптекарь» и «Шеврикука, или Любовь к привидению». Большой раздел сборника составляют эссе о потрясающих художниках современности Наталье Нестеровой и Татьяне Назаренко, и многое другое.
Впервые публикуются интервью Владимира Орлова, которые он давал журналистам ведущих отечественных изданий. Интересные факты о жизни и творчестве автора читатель найдет в разделе «Вокруг Орлова» рядом с фундаментальным стилистическим исследованием Льва Скворцова.
Усы (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Поневоле задумаешься: «В чьи же рамки надо втиснуть сочинения нынешних пересменщиков, чтобы они обрели такое же звучание, что и названные вами произведения»?
– А их ни в чьи рамки втискивать не надо – они сами себя втиснули в рамки коммерциализации. Навеки.ТРОИЦКОЕ – ПЕРМЬ 2000
Юрий Беликов Сам по себе [8]
Из беседы с классиком «ирреалистического реализма» Владимиром Орловым
– Есть прототипы, а есть произведенные вашими произведениями. В Перми, куда вы время от времени поселяете своих героев, живет альтист Анатолий Жохов. Гений импровизации. Он может «считать человека» или ауру только что услышанного стихотворения – и тут же перелить это в голос альта. А к инструменту он этому прикипел, когда-то прочитав, по его собственному признанию, «Альтиста Данилова». Мало того, он фактически материализует текст из вашего романа. Помнится, Мелехин обращается к Данилову: «… неужели тебе, альтисту, слабо сыграть то, что написано для какой-то скрипки!»? Так вот, пермский альтист Жохов по четным дням играет на скрипке, а по нечетным – на альте. Наверное, в этом уже состоялось развитие текста Владимира Орлова?
– Мне об этом любопытно слышать. В Перми я был только раз. В конце 60-х. Тогда я работал в «Комсомольской правде». В принципе, должен был ехать на совещание молодых писателей в Вешенскую к Шолохову. Но понял, что в Вешенской очень легко так загулять, что потом костей не соберешь. В результате очутившийся там Василий Белов прыгал со второго этажа. А тут меня срочно заставляют собираться в Пермь. Я поколебался и решил, что не поеду в Вешенскую – там, кроме пьянки, все равно ничего не будет. Так я оказался в Перми, где «прописал» потом своих героев – Мишу Коренева и Наташу из «Альтиста».
– Стало быть, не поехали бы в Пермь – не «прописали» бы. Послали бы их в Вешенскую. А так, читая «Альтиста», пермяки находят четкую «привязку к месту: «Он тогда из дома ушел, из оркестра, все хотел бросить и все начать сначала. Уехал в Пермь, – рассказывает Данилову про Мишу Коренева ваша героиня Наташа. – Стал работать в театре, в музыкальной части, комнату снимал в Мотовилихе в деревянном доме. Я у него и жила…» Значит, запомнилась вам Пермь?
– Может, оттого, что она произвела на меня мрачное впечатление. Я очень хорошо знаю Самару. Она примерно такое же расположение имеет, как и Пермь. Так же тянется вдоль берега реки. Но, в отличие от Самары, небо над Пермью было затянуто низкими тучами, дул холодный ветер. Это – несмотря на июль. А Самара, в общем-то, курортный город. Там и виноград растет, и абрикосы. Иллюзия, что ты сейчас к морю выйдешь. А здесь… Город тогда был застроен плохо. Я уж забыл, в какой гостинице мы жили. Мы – это я и Володя Чернов, молодой сотрудник «Комсомолки», которого я должен был натаскивать. В воскресный день я поднял этого самого Чернова утром рано. И мы поехали. Как у вас там северная пристань называется? Там запонь еще такая лесная. Это – за пределами города. Ну, в общем, оттуда мы на ракете дунули до Соликамска. И сейчас в «Лягушках» я тоже вспоминаю Соликамск. Тогда в стране вводили так называемую пятидневку. И нам по этому поводу надо было написать очерк. Но поскольку дело было в воскресенье, мы целый день бродили по местам Строгановых в Усолье. И вот эти места произвели на меня сильное впечатление. А в самой Перми смотреть особо было нечего…
– Но все-таки вы же упоминаете в своем романе театр. Это, я понял, театр оперы и балета?
– Да. Туда Чернов у меня все время ходил к балеринам.
– И Чернов вам, собственно, и принес эти реалии?
– Ну почему? В те времена я читал-то все-таки много: и о пермской хореографии в том числе. Поэтому какие-то представления имел. Но большее впечатление на меня произвел стенд «Не проходите мимо», увиденный мною в Перми. Я потом описал его в своем рассказе «Трусаки». Цитирую: «Там висели фотографии пьяниц. И вот что меня удивило. В подписях корили не любителей выпить на троих, как было бы в нашем городе, а «любителей спариться». Вот откуда, понял я сейчас, пошло «спарринг-партнер». Эта мысль меня взволновала и обрадовала. Не заржавели, значит, мы разумом. Не в одних иностранных словарях искать облегчение мыслям! Есть и у нас еще дотошные умы, способные раздвинуть границы языка и создать новые специфические выражения».Пермь 2010
Тамара Александрова Сочиняю, как умею… [9]
«Ходил за грибами и вдруг в меня вцепилась фраза, будто оса ужалила: «Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы». Причем жало осы не оказалось болезненным. И дальше грибы попадались, и фраза вилась рядом, намереваясь ужалить еще раз…» Я прочла это у Владимира Орлова в эссе «Лоскуты необязательных пояснений» и вспомнила (мы знакомы давно, и обращение «ты» в нижеследующем тексте не панибратство), как он рассказывал о поиске первой фразы своего первого романа «Соленый арбуз»: надо, чтоб она сразу зацепила читателя. И чтоб писателю, добавим, не оставила возможности увернуться от работы.
Орлову всегда удается сразу же втолкнуть тебя в повествование. «У попа была собака. Поп ее, естественно, любил…», «В окно смотрела лошадиная морда…», «Прокопьев любил солянку…», а еще и «У Ковригина кончилось пиво…» Ни выстрелов, ни сентенций, пронзающих неожиданностью, так – обыденность, но почему-то предчувствуешь: не случайно у Ковригина кончилось пиво, сейчас что-то такое произойдет…
Ковригин – герой «Лягушек», девятого романа классика современной литературы, как все чаще называют Владимира Орлова. До этого написаны «Соленый арбуз», «После дождика в четверг», «Происшествие в Никольском», «Альтист Данилов», «Аптекарь», «Шеврикука, или Любовь к привидению», «Бубновый валет», «Камергерский переулок», рассказы, эссе.
Книги Орлова сегодня встретишь даже в маленьких книжных магазинчиках где-нибудь в провинции, они выстраиваются в ряд на стеллажах столичных гигантов. У него много верных поклонников, даже фанатов. Но есть и читатели, которые при знакомстве с текстом крутят пальцем у виска: странный какой-то этот писатель…
До «Соленого арбуза»
– Когда публику взбудоражил «Альтист Данилов», нередко – и меж собой, и на многолюдных обсуждениях – говорили: Орлов вышел из Булгакова, а ты напоминал, что до Булгакова был Гоголь, а до Гоголя – Гофман, любимый с детства писатель.
– Писателя Гофмана я оценил, естественно, во взрослом состоянии… А в детстве… Мама обменяла на Рижском рынке – мы жили рядом, в Напрудном переулке, – кипу старых, еще довоенных газет (торговцам они требовались для кульков), на буханку хлеба, а хлеб – на лишние билетики в Большой, на «Щелкунчика». Еще война шла, жизнь полуголодная, скудная, у детей и игрушек-то не было, и вдруг случилось волшебство: я попал в сказку, или прожил в сказке великого чудесника Эрнста Теодора Амадея Гофмана, и он вошел в мою жизнь вместе с Петром Ильичом Чайковским, Большим театром… Я долго хранил программку, где, между прочим, сообщалось: Маша – Майя Плисецкая. Дебют.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: