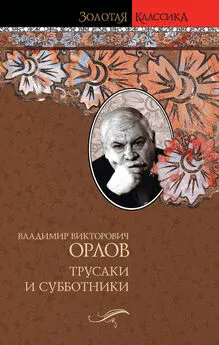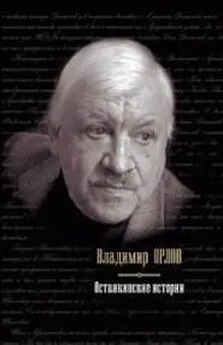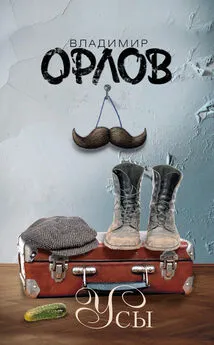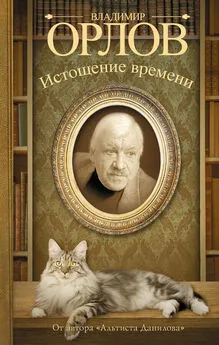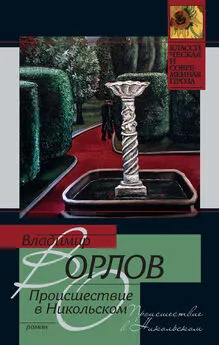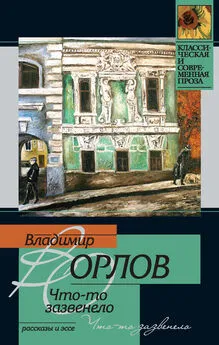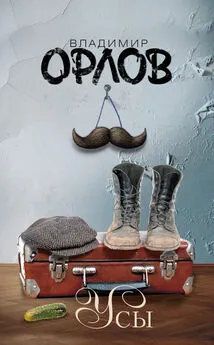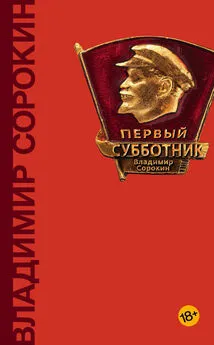Владимир Орлов - Трусаки и субботники (сборник)
- Название:Трусаки и субботники (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-062601-4, 978-5-271-25563-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Орлов - Трусаки и субботники (сборник) краткое содержание
В книгу классика современной отечественной прозы Владимира Орлова вошли как уже известные читателю произведения, принесшие автору широкую известность («Трусаки», «Субботники», «Бубновый валет»), так и новое эссе «Лоскуты необязательных пояснений, или Хрюшка улыбается…», не издававшееся ранее.
Трусаки и субботники (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Из дубовой колоды, – предположил я.
Лена пришла на вокзал провожать московского визитера. Валил снег, за десять пермских дней солнце так и не уважило меня своим явлением. Я постарался произнести некую галантную фразу, что вот, мол, Елена Григорьевна и заменила мне в Перми занавешенное сизыми облаками светило, и пообещал выслать газету, коли в ней будет напечатано мое сочинение…
47
Но его – очерк ли, эссе ли, корреспонденцию ли – следовало еще написать. Никаких отгулов Зинаида Евстафиевна, естественно, не могла мне предоставить, сидеть с бумагой и ручкой полагалось по ночам. Старики вернулись со своего огорода, и теперь, после временных дворцовых удовольствий на просторах чужого жилья, теснота и неудобства коммунального бытия стали для меня особенно печальными. По ночам я мог писать только на кухне. Выходы по нужде полуголого Чашкина и его остроты трудам моим не способствовали. Чашкин, похоже, был удивлен тем, что я еще работаю в газете и что мне позволяют ездить по стране с какими-то поручениями и полномочиями. Пришлось, отменив ночные старания, отправляться пораньше на Масловку и мучить бумагу в читальном зале нашей библиотеки.
Однажды удивил меня шутник Башкатов. Он вот-вот должен был отправиться на медицинские обследования в Звездный городок (об этом не говорили, но намеки в коридорах прошмыгивали). Солонка № 57 с крестиком и костяной фигуркой из моей коморки не исчезла. Но когда Башкатов объявил о намерении поговорить со мной, я был уверен, что он коснется сюжета прошлой нашей беседы и нечто новое мне откроет. Однако я услышал от него вот что:
– Куделин, ты ведь болтался сейчас в самых соленых местах отечества…
– Когда-то самых соленых…
– Ну и замечательно, что когда-то. Это «когда-то» для нас особенно ценно…
– И что?
– Ну, и накопал ты что-нибудь для нас о солонках?
– Батюшки-светы! – воскликнул я. – Да ведь история с солонками закончена! Или опять будешь меня морочить?
– Нет, тебе все открыто. Розыгрыш закончен, и, стало быть, ты уже не объект ехидства. Но я кое-что узнал о коллекционерах. Что – пока промолчу…
– Не знаю почему, но я интересовался там солонками. Или по-деревенски – солоницами…
– Ну и?
– Ничем особенным порадовать тебя не могу. Так, этнографические наблюдения…
Я не стал разъяснять Башкатову, что интерес мой к солонкам, их формам и легендам, в исторической русской солеварне был вызван не только любопытством, но и желанием подурить самого Башкатова и чем-то, совершенно странным или даже нелепым, озадачить. Я готов был даже ему наврать и подсунуть ложную солонку «от самих Строгановых». Но Башкатова, видимо, озадачили без меня, и мое желание пошутить пропало. В Перми и Соликамске, в краеведческом музее, в особенности в его фондах, мне показывали здешние солонки. Фарфоровых среди них почти не было. В допетровские времена соликамским купцам и солеварам – «лучшим людям», «молодшим» и «самым молодшим» – служили простые деревенские солоницы (отсюда, наверное, и фамилия – Солоницын) – деревянные, сплетенные из бересты или даже лыка. Форму они имели стаканчиков, коробочек с крышками, и такие могли попасть в коллекцию Кочуй-Броделевича. Позже, при Петре и после него, в дело пошли солонки из белого или цветного стекла либо металла, покрытого эмалью, в ажурной серебряной оправе. «Лучшие люди» заводили себе и целиком серебряные солонки. Одну такую я видел, происходила она скорее всего из палат уже баронов Строгановых в Усолье – этакое корытце с крышкой на высоком стаканообразном стояке и круглом поддоне на ножках. Но ничего этакого, что бы могло дать развитие нашему солоночному сюжету, в пермских предметах быта я не обнаружил.
– Ну и напрасно! Ну и напрасно! – принялся отчитывать меня Башкатов. – Ты ведь и сам расстроился, узнав об отмене тайны. Но может, она только теперь и возникла! И тебе в соляном краю надо было шевелить мозгами!
– А я, Башкатов, и шевелил мозгами, – сказал я, напуская на себя важность. – И вот что я надумал. Многие солонки были частью сложных столовых наборов или составными предметов специальных. Скажем, судка столового. Это вроде подставка для флаконов с маслом, уксусом, перцем, сахарной пудрой, горчицей и солью. Я такой судок со стержнем-рукояткой видел в Перми. Солонки же Кочуй-Броделевича, иные из них, могли быть отъяты от именно таких наборов, а секрет-то их, возможно, держался в их сообществе! Ты сам говорил, что моя солонка крепилась на какой-то подставке!
– Да! Именно! – глаза Башкатова горели. – Говорил! А как же! Говорил!
– Есть у меня еще кое-какие соображения, – произнес я как бы многозначительно. – Но о них попозже. И надо проверить… Тамошние музейщики, если они откроют нечто нам полезное, обещали мне написать или позвонить…
Вся эта чушь о совместных тайнах флаконов из столовых судков пришла мне в голову по ходу разговора. Но о договоренности с музейщиками, с Еленой Григорьевной в частности (в мыслях я называл ее теперь – Лена Модильяни), я не соврал. Я заинтересовал их рассказами о коллекции Кочуй-Броделевича, и они сами вызвались что-либо занятное для меня поискать.
– Вот видишь, Куделин, – обрадовался Башкатов, – ты все же не безнадежный! Я разберусь с коллекционерами, а ты копай дальше…
– А будет ли у меня время… – осторожно произнес я.
– А что у тебя со временем?
– Ну… У нас же был с тобой недавно разговор…
– А-а-а… Это-то! – Башкатов махнул рукой, на мой взгляд, совершенно легкомысленно. – Полагаю, что поток, над которым ты, предположим, прошелся, уже унесся… Куда там у них впадает Ниагара?.. В штилевые воды озера Онтарио…
Все же он добавил:
– Постучим по деревяшке.
Постучали.
Очерк я написал за неделю. Марьин погонял меня бичом и угощал пивом. Я попытался рассказать ему о пермских впечатлениях, с тем чтобы испрашивать советы, но он заявил сердито: «Не надо! Выговоришься, выплеснешь наблюдения и успокоишься. Писать потом пропадет желание. По себе знаю. Профессиональные уроки. И впредь не выбалтывай впечатления. Береги их для бумаги». Советы (по очерку) он все же давал. А прочитав мое литературное изделие, распечатанное в трех экземплярах, заключил: «Нормально, старик, нормально. И суть есть, и эпитеты, и образы уместные, главное – точные, темперамента, пожалуй, кое-где не хватает, но и без него обойдемся… Вот только эпизод с солеваренным заводом надо расширить». Конечно, хотелось бы услышать от Марьина и хотя бы сдержанных похвал, но марьинское «нормально» и следовало признать одобрением.
Подсказку о солеваренном заводе я посчитал справедливой. В ту пору ценность промышленной архитектуры считалась дискуссионной. В Свердловске без сожаления ломали здания демидовских заводов. А в Соликамске нашлись энтузиасты, пожелавшие реставрировать Усть-Боровский завод со слободой мастеров (две улицы с огородами) и устроить музей отечественного солеварения. Шедевров там не имелось, но в отважной затее соликамцев виделась любовь к умельцам и простым работникам. Мне показали листы с рисунками реставраторов и сами здания завода, уцелевшие на западе Соликамска, все деревянные, – рассолоподъемные башни, банки-лари (с трехэтажный дом) для хранения рассола, варницы, амбары. Это был целый городок. Или острог. Из-за башен варниц. Я представил, каким удивительным может стать здешний солеваренный заповедник. А написал об этом вскользь. Теперь огрех следовало исправить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: