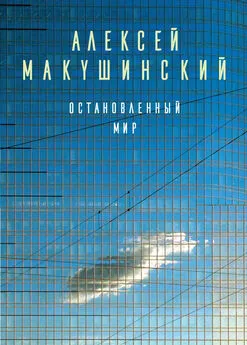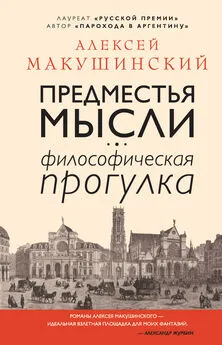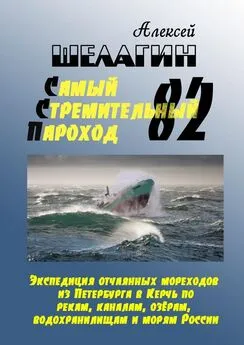Алексей Макушинский - Пароход в Аргентину
- Название:Пароход в Аргентину
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Макушинский - Пароход в Аргентину краткое содержание
«Пароход в Аргентину» – третий роман автора. Его действие охватывает весь 20 век и разворачивается на пространстве от Прибалтики до Аргентины. В фокусе романного повествования – история поисков. Это «роман в романе». Его герой – альтер эго автора пытается реконструировать судьбу Александра Воско, великого европейского архитектора, чья история – это как бы альтернативная, «счастливая» судьба русского человека ХХ века, среди несчастий и катастроф эпохи выполнившего свое предназначение. Это редкий случай подлинно европейского интеллектуального романа на русском языке.
Пароход в Аргентину - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава 13
Und nichts war verurteilt,
zu bleiben,
was es war —
damals, im raschen Wind.
И больше я ничего не знаю об этом первом приезде А.Н.В. в Рио-Давиа; знаю только, что в мае пятьдесят первого, то есть уже через месяц, когда подряд был получен, он появляется там вместе с Владимиром Граве, вскоре, впрочем, уехавшим обратно в Буэнос-Айрес, иногда наезжавшим; что когда всерьез начались расчеты, работы, А.Н.В., то ли уставший от разъездов, то ли уже подружившийся с intendente, уже понявший, что его строительная деятельность мостом не закончится, что она только, может быть, начинается, поселился в одном из тех плоских, с беленными мелом стенами домиков, из которых, собственно, и состоял тогда городок, сняв в нем две, кажется, комнаты, с окнами, выходившими в тихое патио (фотографий не сохранилось). Что же до Марии, то она, как выясняется из ее писем чопорной и чадородной английской подруге, переснятых мной в Лангедоке, приехала в Рио-Давиа почти в одно время со своим будущим вторым мужем, то есть через целых пять лет после глупой гибели первого (на тихой улице, под случайной машиной), за эти пять лет так и не справившись со своим горем (или не справившись, может быть, с каким-то позднейшим большим разочарованием , big disappointment, намек на которое пару раз проскальзывает в ее переписке). Ей было все равно, куда ехать, так, во всяком случае, утверждает она в письмах к чадолюбивой подруге, звавшей ее в Европу, ей важно было уехать из Буэнос-Айреса, прочь от воспоминаний, от назойливых родственников, от братних друзей и четвероюродных кузенов, мечтающих утешить молодую вдову. В Европу все-таки она не поехала, предпочла край света, начало тьмы, запредельную глушь. Как именно попала она в Рио-Давиа? почему в Рио-Давиа? Существовала ли какая-то связь между ее семьей и, к примеру, семьей intendente Belongo? Ни из каких бумаг этого не видно; видно лишь некое сходство между этими семьями, те же имена в фамильных преданиях, Уркиса, Доминго Сармьенто. Ее дедушка по материнской линии, du coté maternel, в молодые годы успел еще поучаствовать в завоевании и освоении аргентинского юга, так называемом покорении пустыни (Conquista del Desierto), вполне гибельном, конечно, для каких-то последних несчастных индейских племен, так что сюда, от своей беды убегая, она шла в каком-то смысле по следам и стопам этого обожаемого ею когда-то, в самом начале жизни, давно уже покойного дедушки, и это одна из тех немногих вещей, которые я вообще знаю об ее детстве, ее предыстории, причем знаю не со слов Вивианы, никакого, мне кажется, интереса не питающей к своему мифическому аргентинскому пращуру, но со слов Пьера Воско, рассказавшего мне о нем еще в нашу мюнхенскую встречу, прибавив, я помню, что отец его, бывало, говаривал, что это их предки привели их обоих в Рио-Да-виа, и его, и Марию. Как бы то ни было, упоминаний об intendente в ее письмах я не нашел; возможно, они и знакомы не были, покуда Александр Воско их не познакомил друг с другом; intendente, покуда Александр Воско не познакомил их, лишь краем уха, может быть, слышал об этой загадочной преподавательнице английского и французского, вдруг и ни с того ни с сего появившейся в его городе, в незадолго до этого появления как раз основанном университете, еще ютившемся в каких-то случайных сельских домишках, в ожидании архитектурного шедевра, через два года созданного А.Н.В. Она тоже сняла, надо полагать, комнату или две в таком же плоском, бело– и мелостенном, с патио, доме, в каком снял свои комнаты Александр Воско, в получасе небыстрой ходьбы по каменистым и пыльным улицам от этого рио-давского университета, в ту начальную свою пору не слишком, похоже, отличавшегося от школы для переростков; отрабатывала свои часы; ни с кем не сближалась. Я вижу коллег и студентов, пишет она подруге в большом письме от десятого мая все того же 1951 года, это только коллеги, только студенты, я для них никто и они для меня никто. Я вряд ли долго смогу выдержать эту жизнь; а впрочем… неважно, it does not really matter. Если бы я могла спать… Жалобами на бессонницу полны ее письма; эта бессонница (моя знаменитая бессонница, my famous insomnia, как сама она выражается) будет преследовать ее еще долго. Моя знаменитая бессонница проявилась сегодня ночью во всей своей силе и красоте (in all its beauty and strength); я шучу с горя, а что мне еще остается… Я прихожу домой, пишет она все в том же письме, падаю на кровать и сразу же, на пятнадцать минут, засыпаю. А потом начинает темнеть, и выходить на улицу уже страшновато. У меня есть, конечно, револьвер, замечает она с той непосредственностью, с какой, наверное, только в Новом Свете говорят об оружии, но идти мне все равно некуда, да никуда и не хочется мне идти. Я перечитала всего Шатобриана, the whole of him, от Atala до La vie de Rancé , перечитала Стендаля, перечитала Томаса Гарди. Иногда я просто лежу и прислушиваюсь. Шумит ветер, здешний вечный ветер, лает собака. Голоса слышны с улицы, грубые голоса, пьяные голоса. Потом все смолкает, потом опять где-то лает собака. Время идет, было шесть часов вечера, вот, глядишь, уже девять. Мне тридцать лет; куда сгинула моя юность? Она исчезла, и я ни на что не надеюсь. Я, наверное, никогда уже не уеду отсюда, так и умру здесь. В следующем письме сообщается, что она начала ездить верхом, не сообщается, с кем, и что это подняло настроение. Как ты прекрасно помнишь, пишет она подруге, я больше всего люблю куда-нибудь, или не куда-нибудь, а вообще и просто так ехать, быстро ехать, на лошади ли, на машине (to ride a horse, to drive a car…). Машин здесь совсем мало; у моих соседей все-таки есть старый (чудесный, зеленый, с большой подножкой и шестью цилиндрами) пикап Dodge (образца, наверное, тридцать шестого года); я, кажется, совсем сбила их всех с панталыку (perplexed them all), когда почистила у него свечи (после чего он перестал чихать) и проехала по двору. Мне теперь позволяют на нем кататься. Когда я выезжаю на улицу, чумазые местные мальчишки прыгают прямо на подножку, и пытаются залезть в кузов, и чуть ли не на капот, так что всякий раз приходится мне останавливаться, сажать их в кабину. Только тени облаков бегут по траве вслед за нами, облако пыли, поднятое колесами, пытается за ними и за нами угнаться, людей уже нет, попадаются задумчивые коровы, одинокая хищная птица кружит над холмами, или просто висит в воздухе, с распростертыми крыльями, и вот так, думаешь, ехать бы и ехать куда-нибудь, с одного края света на другой его край, нигде не задерживаясь, обо всем забывая, без прошлого и без будущего, в непрерывном движении, в непреходящем покое. Потом думаешь, что все это вздор, начинаешь болтать с мальчишками, поворачиваешь обратно, возвращаешься в город.
Что же до обстоятельств ее знакомства с А.Н.В., то о них мне ничего не известно; Вивиана, в неохотный ответ на мои письма, сообщает, что, нет, ей никогда об этом не рассказывали, и она не спрашивала, или забыла, и вообще, какое это теперь имеет значение? Познакомились и познакомились, на краю света, тысячу лет назад… В письмах же самой Марии он появляется внезапно, в начале 1952 года, без всяких объяснений, под неожиданно испанизированным именем Алехандро (Alejandro), как если бы она не знала, что делать с его русско-балтийским происхождением. Возможно, важнейшее письмо с рассказом об их знакомстве утрачено, или не возвращено Марии вместе со всеми другими, или положено Марией где-то отдельно, так что я проглядел его… Я думаю теперь, что они просто не могли не познакомиться в том месте и в то время, в которое и в котором судьба свела их. Они были два экзотических существа в далеком, диком, глухом городке – загадочная молодая вдова из богатой и знатной креольской семьи, почему-то зарывшаяся в глуши, и знаменитый архитектор, прямо, черт возьми, из Парижа. Он знаменитым еще не был в ту пору, и приехал из Парижа не прямо, но местным жителям, от intendente до рабочих на стройке, очень хотелось, наверное, чтобы так это было, а значит, так оно и было для них. Местные сплетницы сразу, наверное, и свели их друг с другом, подражая судьбе; наша дружба (our friendship), пишет она чуть позже, – главная городская сплетня (the main gossip of the town); не разочаровывать же человечество. Я провела выходные с Алехандро, сообщается 20 марта 1952 года, без всяких, еще раз, объяснений и комментариев, как если бы для чадолюбивой английской подруги это уже само собой разумелось. I spent the week-end with Alejandro… Отныне – и наряду со знаменитой бессонницей – это лейтмотив ее писем. По-видимому, им все-таки трудно было встречаться в самом городишке, слишком католическом, слишком провинциальном. Они удирали оттуда, еще дальше и еще дальше на юг, прочь от чужих косых взглядов и мерзко сочувствующих усмешек, в окончательное никуда и безоглядное морское безлюдье. В письмах (поначалу, похоже, в шутку) появляется слово эстансия . Мы убежали на нашу эстансию… Каковая эстансия отлично видна на нескольких, в Лангедоке переснятых мной фотографиях. Это просто дом с террасой, с навесом на двух круглых столбиках, дом плоский и темный, совсем небольшой, укрытый от океанского ветра грядою все таких же, как, видимо, повсюду в той местности, темно-кремнистых холмов и низкими, как и повсюду там, пригнувшимися к земле соснами; до ближайшего жилья километров десять; до Рио-Давиа километров, наверное, пятьдесят. Им казалось, что южнее нету уже ничего, южнее уже Антарктида. Это было, конечно, не так, но почему-то их веселила, почему-то даже утешала их эта мысль. Вот и всё; дальше некуда уже ехать… А.Н.В., судя по всему, просто купил этот дом, тоже, как впоследствии в Лангедоке, за совершеннейшие, смехотворнейшие гроши; замечательно, однако, что, в отличие от лангедокского, ни перестраивать, ни даже, кажется, сколь бы то ни было основательно его обустраивать он не стал, глядя на него, следовательно, как на временное, хотя и пленительное, пристанище. Они здесь не жили, они здесь любили друг друга. Мария пишет об этой любви с откровенностью поразительной, как если бы она была не она, а восемнадцатилетняя девица, сгорающая в огне сексуальной революции, и на дворе был не пятьдесят второй год, а шестьдесят, к примеру, восьмой; неудивительно, что ее письма к ней возвратились. So we just did it in the car and then in the cabin, and I came three times consequently (twice with the clitoris and at the end with the uterus… it’s a sort of a poem, isn’t it?), screaming and biting him like a whore. Все же есть в этом некая институтская наивность, позволю себе заметить; никакая whore не кричит и не кусается в самом деле; разве что ей нужно сыграть бурную страсть, за дополнительную плату, понятное дело. Наивность не мешает иронии… Ее письма ироничны, часто печальны, даже после появления Alejandro. Все же видно, как она успокаивается; упоминаний о бессоннице становится все меньше; они сами все более ироничны (my famous, my beloved and cherished insomnia). Она была, похоже, от природы насмешница; смеялась, впрочем, скорее над самой собой, чем над другими людьми. И вот так твоя сумасшедшая однокашница (Your crazy school-mate) оказалась черт знает где, в обществе человека, которого она любит, которого совсем, по правде сказать, не знает. Его жизнь для меня как сказка, пишет она в другом месте, a sort of а fairy talе, я пытаюсь представить себе эту какую-то гражданскую войну в России, какой-то этот поход на Петроград с генералом, которого имени я не могу ни запомнить, ни выговорить, и, конечно, не в состоянии вообразить себе все это, эту страну, эту войну, хотя война-то, наверное, не так уж и сильно отличалась от наших здешних гражданских войн… Она все же явно старается вообразить себе его прошлое, расспросить и еще раз расспросить его об этих сказочных войнах, сказочных странах. А как, наверное, отступало… и как вдруг приближалось к нему это прошлое, когда он рассказывал ей о нем, под завывание вечного ветра и потрескиванье сучьев в той печке, которую, или в том камине, который он топил по вечерам на эстансии. Эта эстансия была, в сущности, как русская дача, просто Россия была уже где-то так далеко, как будто ее вообще не было, не было даже в том прошлом, о котором рассказывал он. В Буэнос-Айресе, с его православной церковью, монархическим клубом и газетой «Наша страна», Россия, по крайней мере – та погибшая, тоже была далеко, но все же она где-то была. Здесь ее не было, здесь она и вправду превращалась в fairy tale, здесь только ветер гудел вокруг дома. Что ж ты, ветер, стекла гнешь, ставни с петель дико рвешь, повторял он, может быть, любимые когда-то стихи. Как мне милую чужому, проклятому не отдать… Милая была рядом, она сидела и смотрела в огонь, ей можно было все рассказать – по-французски – рассказать и о генерале Юдениче, и о балтийском ландесвере, и о Париже, занятом немцами, или рассказать ей о своем бегстве с родителями в январе девятнадцатого года из захваченной большевиками Риги в Митаву, на санях, в страшный холод и в тягучей толпе других беженцев, других саней и повозок, наползавших и наезжавших друг на друга, и о бегстве через несколько дней от большевиков еще дальше, в Либаву, вместе с какими-то, ему не запомнившимися, сослуживцами отца, какими-то офицерами, в товарном вагоне бесконечного поезда, незабываемом товарном вагоне, куда вдруг втиснулась вся веселая труппа разбитного немецкого варьете, еще так недавно развлекавшего в Риге утомленных войною солдат, и чем дальше они ехали, тем темнее, и веселее, и таинственнее становилось в вагоне, манящими огоньками вспыхивали зажигаемые в трепетной темноте папиросы, появилось вино, появилось даже шампанское, офицеры басили, актрисы возбужденно шушукались, притворно отбивались от ухаживаний, вдруг взвизгивали, и воркующим шепотом говорили неразличимое что-то, от чего офицеры басили все гуще, и хохотали все громче, и даже сослуживцы отца удовлетворенно покрякивали, и мать, в конце концов, завесила простынею угол вагона, чтобы он и, главное, его девятилетняя в ту пору сестра не видели происходящего, но он все, разумеется, видел, он был уже взрослый, и когда сестра уснула, его с виду строгая мама, на самом деле, как он уже тогда догадался, готовая всех понять, всех простить, кроме себя самой, выйдя из-за своей занавески, тоже, к немалому их изумлению, вступила в разговор с юными дамами (junge Damen), после чего объявила, что они вообще-то хорошие, хотя, конечно, и непутевые девушки, и что надо бы попробовать их всех выдать замуж в Либаве. А на промежуточных станциях немецкие солдаты, соблазненные революцией, продавали оружие каким-то темным личностям, и в самой Либаве делали то же самое, и если темных личностей поблизости не было, просто ломали его и бросали, о фонарные столбы разбивали свои карабины, и остановить их было невозможно, было некому остановить их, и он уже тогда хотел записаться в формировавшийся ландесвер, но родители увезли его, почти насильно, на пароходе в Мемель и дальше в Берлин, откуда через месяц все-таки убежал он обратно в Либаву. Все это можно было рассказать ей, и она смеялась, конечно, когда он рассказывал ей об актрисах в вагоне, и вдруг заплакала, когда рассказывал он, как в марте все того же девятнадцатого года они отвоевали Митаву обратно, но заложников освободить не успели и на другой день на рижском шоссе обнаружили схваченные морозом, с раскинутыми руками, трупы женщин и стариков, и еще стариков, и снова женщин, угнанных и по дороге пристреленных отступавшими красными, такое множество трупов, с такими зияющими глазами, провалами ртов, что он даже не пытался сосчитать их, валявшихся по обочинам, и кто их убирал и хоронил потом, он не знает, потому что вместе со всем ливенским отрядом отправлен был держать линию фронта по реке Курляндской Аа, той самой Курляндской Аа, которую, ниже по течению, еще почти в детстве, на лодке переплывал он, бывало, что строго-настрого запрещали им делать родители, со своим вновь обретенным другом, теперь живущим в Буэнос-Айресе, обещавшим скоро приехать сюда в Рио-Давиа, и они стояли там еще целых два месяца, на этой реке, поначалу еще замерзшей, так что и красные переходили на их берег, и они переходили, конечно, на тот, под началом подпоручика Тимофеева, человека безоглядной отваги, у которого и он, Алехандро, чему-то самому важному, может быть, научился, незабвенного, всегда курившего короткую трубку подпоручика Тимофеева, в конце года, после крушенья всех армий и всех надежд умершего в Нарве от тифа и ран, и прекрасную панику наводили в большевицких тылах, и вообще жили весело, на большом и богатом хуторе, привечаемые толстой хозяйкой, немало натерпевшейся за последние месяцы, и он никогда, наверное, ни до того, ни после того не испытывал такой братской и беззаветной близости сведенных судьбою в один отряд очень разных, но тогда и там, в том месте, в то время, и в самом деле, он полагает, готовых пожертвовать собой друг для друга людей. Можно было, еще раз, и даже нужно было, конечно, то есть ему нужно было рассказать ей все это, но можно было и ничего не рассказывать, можно было просто смотреть на нее, понимая, что ближе и дороже у тебя никого теперь нет и не будет, и что все же это другой, уже не чужой, или только вдруг чужой, ненадолго и вдруг отчужденный, но в конечном счете, как и все люди, все же навсегда загадочный для тебя человек. Ее надо было еще отвоевать у чужого, не у кого-то чужого и третьего, и даже не у воспоминаний об этом третьем, вернее – первом, об ее погибшей первой любви, но у чужого как такового, у злосчастной, извечной, проклятой чуждости мира. Она замыкалась в себе, леденела, словно схваченная своим собственным морозом, внутренним холодом, затем снова оттаивала. Что-то становилось вдруг между ними. Ему это было почти все равно, он знал, что это пройдет. Он вспоминал, наверное (с горькой нежностью, теперь, когда сам был счастлив…), бедную свою Нину, Нину, которая так хотела казаться еще более загадочной, чем была, а была, по сути, проста и понятна ему, c ее изломанными стихами и жаждой всесветного подвига… Еще и потому была, впрочем, понятна (так думал он, может быть, глядя, как горят, ломаются ветки в огне), что была все-таки русская, читала те же книги и росла на тех же преданьях. Нине не нужно было ничего рассказывать, она и так все знала о ливенцах. Здесь общих преданий не было, и отсчет времени приходилось начинать сначала, с вот сейчас, с вот этого вечера.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


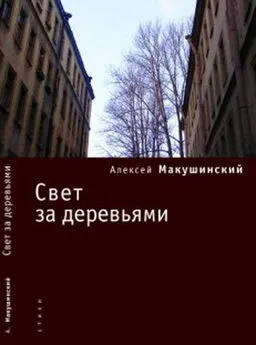
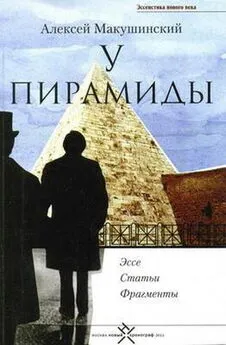
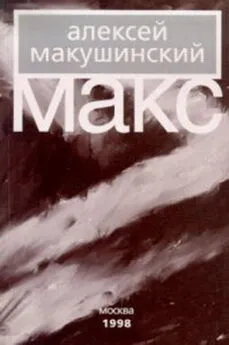
![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/1068510/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk.webp)