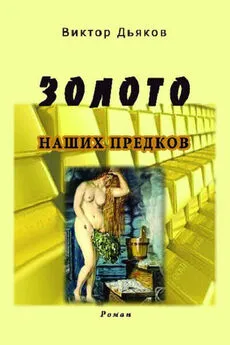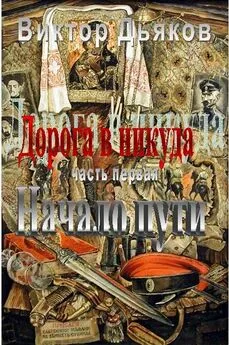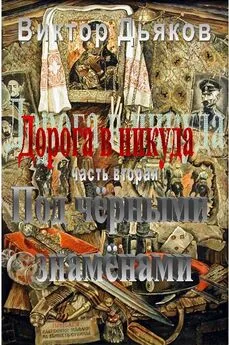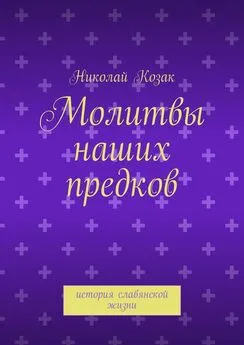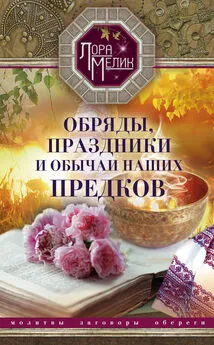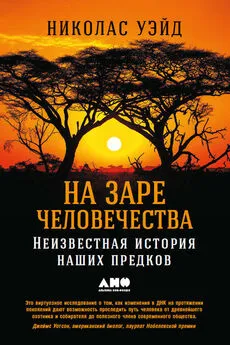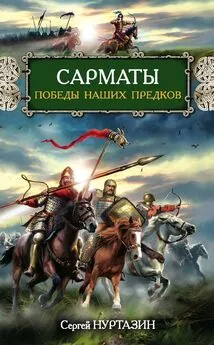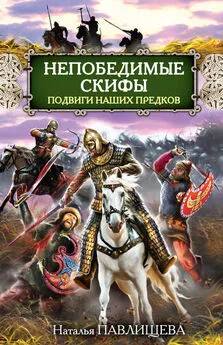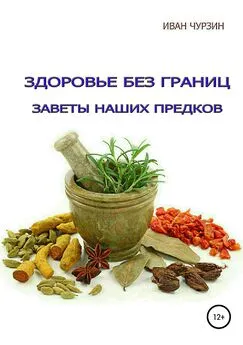Виктор Дьяков - Золото наших предков
- Название:Золото наших предков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91865-190-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Дьяков - Золото наших предков краткое содержание
Москва 1997-98 г.г., до и в период дефолта. В романе присутствуют две параллельные линии. Производственная, в которой имеют место и пьянки, и драки, и воровство, и «стукачество», и на выходе вроде бы реальное золото, добываемое из радиодеталей. Вторая линия, это приобщение к миру прекрасного, истинным ценностям – произведениям искусства. Золотой телец, которому поклоняются многие, не есть высшая мировая ценность, таковыми являются творения человеческого гения.
Золото наших предков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Не было. У меня все родичи колхозники, – недовольно отреагировал Калина.
Подмосковный комбинат, конечно, как всегда занизил процент золота в полиметалличес-ком концентрате и вместо извлечённых оттуда трёх килограммов «показал» лишь два. Калина опять поехал на комбинат и… Не стал ругаться, а, напротив, сделал своим «собутыльникам» заманчивое предложение. Он сказал, что согласен получить деньги даже не за два, а всего за полтора килограмма… Но чтобы эти деньги немедленно перевели на счёт фирмы. Обычно деньги от таких сделок поступали не ранее чем через два-три месяца. Таким образом на счёт фирмы почти моментально поступило более двенадцати тысяч долларов. В результате была окончательно погашена задолженность и дробильная машина стоимостью в пятнадцать тысяч «зелёных», наконец, вызволили из залога и перевезли.
Пашков где-то во второй половине своего отпуска позвонил домой Фиренкову, поинтересовался, как тот справляется со складом и узнал от него, что Шебаршин в больнице, а в фирме вовсю рулит Калина, да так, что ого-го. Пашков искренне обрадовался. Ему очень не хотелось по выходу из отпуска сразу встречаться с директором. Теперь процесс возвращения мог пройти без лишней нервотрёпки. Уже в первых числах декабря, за несколько дней до конца отпуска, он в отличном настроении, в очередной раз отправился к Матвееву.
Старик вроде бы чувствовал себя неплохо, тем не менее, его что-то угнетало.
– Что с вами, Виктор Михайлович… может мне в другой раз? – забеспокоился Пашков.
– Нет, нет Сергей… В другой раз, кто его знает… Мне надо завершить с вами этот курс. Сегодня не будет контрольных вопросов, потому что нам предстоит охватить довольно большой и сложный период в развитии отечественной культуры. Это последний период, вторая половины двадцатого века. Вы должны уяснить, что представляет из себя современная художественная культура, такое понятие как постмодернизм. Это слово мало что вам говорит, не так ли?
– Почти ничего, – признался Пашков.
– Ну что ж, тогда нам надо коснуться теории. Вы помните, как трактуется понятие реализм?
– Конечно. Художники и писатели реалисты объективно отражают жизнь, какой она есть, – уверенно ответил Пашков.
– Так, а модернисты?
– Эти показывают мир так, как они его понимают. Нечто вроде мифа о действительности.
– Так, хорошо. Теперь о постмодернизме. Общекультурная тенденция постмодернизма противоположна направленности модернизма, но не совпадает с реализмом… Не понятно? – профессор смотрел с прищуром.
– Как-то не очень.
– Попробую объяснить иначе. Постмодернизм стал реакцией на установившийся к середине столетия общественный порядок, против сложившейся действительности, на Западе буржуазной, а у нас тоталитарной. Модернизм рассматривал природу, культуру как доступные изменению, контролю. Оттого, например, у писателей-модернистов, герои, как правило личности сильные, деятельные, у Аксёнова например. Вам приходилось читать этого автора?
– Да конечно. «Джин Грин неприкасаемый» читал… Помню в училище мы его до дыр зачитывали.
– Ну, это произведение коллективное, не он один его сварганил, но в общем конечно чисто модернистское варево невысокого качества, яркое и пустое. На мой взгляд той же оценки заслуживает и «Остров Крым», его самая нашумевшая вещь. Читали?
– Ну а как же… В «Юности» печаталось, а мы с женой этот журнал в семидесятых и восьми-десятых регулярно читали. Но мне кажется «Остров Крым» очень хорошая вещь, – не очень уверен-но произнёс Пашков.
– Это вам казалось тогда, когда вы его прочитали, когда вы были ещё относительно молоды. А вы перечитайте его сейчас и проанализируйте. Ну ладно, не будем чересчур много внимания уделять модернизму, плавно перейдём к постмодерну. Так вот, постмодернизм не приемлет эти сильные аксёновские и гладилинские личности, которые по своему пытаются изменить мир. Девиз постмодернистов: культура, как и природа требуют принятия, изучения, и охраны. Мы не вольны её менять, как это наглядно пытались делать и буржуа, и большевики, к чему собственно и призывали модернисты. Понимаете… И ещё, модернисты часто отрицали культуру созданную до них, а постмодернисты нет. Известный современный искусствовед Борис Гройс, наш еврей, эмигрировавший на Запад, определил постмодернизм, как тринадцатую серию фильма, все перепетии которого становятся ясны только тому, кто видел предыдущие двенадцать. Улавливаете?
– В общем да… – раздумчиво ответил Пашков.
– Тогда сразу вопрос вам. Если последняя, тринадцатая серия постмодернизм, то двенадцатая какая?
– Ну, Виктор Михайлович, вы меня уже совсем за тупицу держите, это же просто. Конечно, модернизм, – слегка обиделся Пашков.
– Всё верно, – улыбнулся профессор. – Но я ведь вас с подвохом спросил, ради следующего вопроса. А кто у нас в России монтировал эту двенадцатую серию? Мы эту тему с вами прошли.
– Так… сейчас. Ну, если говорить о художниках, то наверное Малевич, Кандинский…
– Правильно. Только в этот ряд надо обязательно добавлять Шагала. Хоть он в конце-концов превратился в этакого гражданина мира, но он выходец из русской художественной школы. И вот теперь переходя на вашу любимую спортивную систему сравнения, типа догнали – не догнали, я утверждаю, что двадцатый век мог бы стать веком русской живописи, как предыдущий стал веком русской литературы, – торжественно возвестил профессор. – Мог бы стать, если бы не Октябрьская революция и воцарившийся как её следствие соцреализм.
– То есть вы хотите сказать, что эти трое…
– Да они вышли в первой четверти века на передовые позиции в развитии живописи, когда набирал силу модернизм и его течения. И если бы у них была возможность спокойно творить на Родине, возможность здесь основать свои школы, иметь учеников… Их ученики к середине века были бы наверняка впереди планеты всей. Но этого, увы, не случилось. Три гения только начали монтировать двенадцатую серию, а завершали её уже не наши художники, у нас оказалось некому. Потому мы так и отстали в период с тридцатого по пятьдесят седьмой год, когда соцреализм задавил всё живое и сущее.
– Извините Виктор Михайлович… я опять как вшивый о бане… Эти трое, они же все евреи?
– Шагал, витебский еврей, Малевич, его же Казимиром звали, он поляк, а Кандинский русский.
– Как русский, фамилия уж больно странная? – удивился Пашков.
– Его предки с кистенём баловали возле реки Конды в Забайкалье, оттуда и фамилия, потом они купцами стали. Так что Кандинский чистый русский.
– Надо ж… Я ведь эту реку знаю, там ракетный полигон расположен. Сколько раз бывал и не знал, что эта речка на весь мир прославлена… И ещё, Виктор Михайлович, опять хотел у вас спросить про нынешних художников. Самые на слуху которые, помните вы мне говорили, что на самом деле они не такие уж гиганты, просто звону много вокруг них?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: