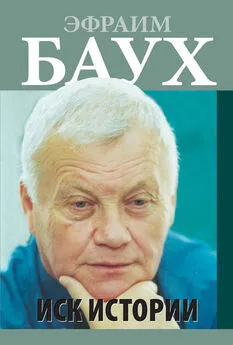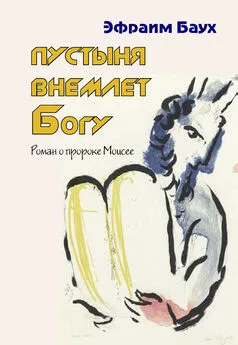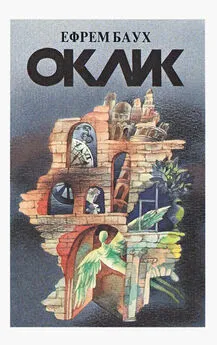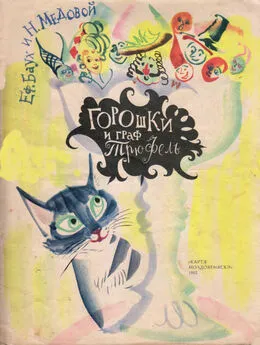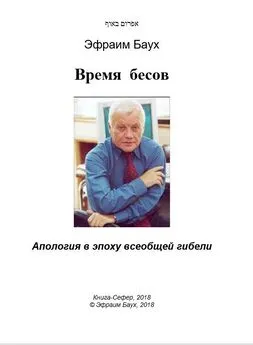Эфраим Баух - Над краем кратера
- Название:Над краем кратера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Книга-Сефер»dc0c740e-be95-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2011
- Город:Москва – Тель-Авив
- ISBN:978-5-699-48706-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эфраим Баух - Над краем кратера краткое содержание
Судьба этого романа – первого опыта автора в прозе – необычна, хотя и неудивительна, ибо отражает изломы времени, которые казались недвижными и непреодолимыми.
Перед выездом в Израиль автор, находясь, как подобает пишущему человеку, в нервном напряжении и рассеянности мысли, отдал на хранение до лучших времен рукопись кому-то из надежных знакомых, почти тут же запамятовав – кому. В смутном сознании предотъездной суеты просто выпало из памяти автора, кому он передал на хранение свой первый «роман юности» – «Над краем кратера».
В июне 2008 года автор представлял Израиль на книжной ярмарке в Одессе, городе, с которым связано много воспоминаний. И тут, у Пассажа, возник давний знакомый, поэт и философ.
– А знаешь ли ты, что твоя рукопись у меня?
– Рукопись?..
Опять прав Булгаков: рукописи не горят. «И возвращается ветер на круги своя».
Над краем кратера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– С тобой опасно иметь дело. Тебя окружают сплошные самоубийцы, – говорю я и вздрагиваю: считанные минуты назад я был в их веселой компании.
– Вообще-то он занимается в актерской студии. Подозреваю, что играет роль. Но я из тех, кто считает, что человеку надо верить. Я ведь и сама подвергала себя искушению. Всё. Я бежала сюда, как ненормальная, и дала себе зарок, если все будет в порядке, мы сегодня посетим с тобой Петропавловскую крепость.
– Отличное место для того, чтобы отрешиться от черной меланхолии.
Мы стоим, замерев, в каком-то переулке, а там медленно движется человек и почти прилипшая к нему лающая на него собака, поджарый пёсик. Движутся они, как нитью связанные. Он не обращает на нее внимания, но раздражен, она не обращает вообще ни на кого внимания, вся поглощена лаем. Иногда он замахивается на нее, она отпрыгивает. Синхронность этих движений еще больше обнажает ниточку, которой они связаны. Так и мы, говорю, ниточкой связаны, не надоел ли еще мой лай.
Вода в каналах, черноватая, но вовсе не притягивающая, ибо я чувствую ее руку, вода с бутылочным оттенком, поблескивает бликами. Весь город взвешен на водах, грезит водами, грозит водами, живет под их сладким страхом. Стоим у метки на Эрмитаже, показывающей уровень прошлых наводнений. Идем горбящимся хребтом моста к Петропавловской крепости. Ангел взметен на головокружительную высоту шпилем собора – золоченой иглой осторожно распарывает днища облаков. И я, южанин, говорю ей об апостолах Петре и Павле. Удивительно, как они – лики библейского юга, солнца, пустынь, слились в слове «Петропавловск». И вот уже это слово расширяется гулким леденеющим пространством, Сибирью, острогами, страшным кромсающим словом «кронверк», виселицей пяти декабристов на кронверке крепости. А над всем этим низкое скудное небо, пронзительные финские ветра, невские воды. По берегам Невы – камень, а в нем – с одной стороны – казематы, глухая, как в щелях стелющаяся жизнь. А с другой стороны – сверканье, люстры, шелк, золото, воздух анфилад, полет кисти на потолках и стенах, вражда камня, серые сумерки. Шинели мышиного цвета, короткий приступ через Дворцовую площадь, как бы навечно впечатанный в арку Генерального штаба.
Наворачивается холст истории, наворачивается, – ледяное кольцо блокады, героизм, простой, как глоток воды, уродливые шишки наледей вокруг проруби, а в глубине темно колышется вода. И еще годы, дни, часы – до этой минуты, в которой стоим, и всё накрепко связано. И ниточка протянута через нас, плюс вся моя жизнь и ее – обширный и прочный залог живших до нас, чтобы наше существование вдвоем было счастливым.
У Исаакиевского собора день неожиданно прорезается солнцем. Мириадами крохотных зеркалец, дымясь, посверкивает вокруг нас карликовая сирень удвоенным блеском: самими барашками цветов и капельками влаги, их отяжелившими. Но тут же небо чернеет, гремит, обрушивается ливнем. Бежим, прячемся под какие-то колоннады.
Странный период длится в моей жизни – период женской жалости. Света жалеет Царёва, Анастасия жалеет меня. Говорят же, что милосердие тоже форма любви. Но есть какая-то с трудом преодолимая неловкость в этой непривычной для меня атмосфере не до конца объяснимого милосердия. Разобраться в этом непросто.
А пока ловим такси, возвращаемся в общежитие, поднимаемся ко мне. Распахиваю окно комнаты в ливень, помогаю ей раздеться. Она бросается к окну, закрывает, отсекая шум дождя. Прижимается лбом к стеклу. Становлюсь рядом. Спрашивает:
– Моцарта любишь?
– Издеваешься?
– Я два билета купила на завтра.
Длится долгая пауза. В таком случае говорят, ангел пролетел.
Спрашиваю:
– Скажи, что ты во мне нашла?
– Родственную душу. Слышал о таком феномене?
– Настя, не выражайтесь красиво в ненастье.
– Узнаю каламбуры, когда на душе кошки скребут.
– С чего бы?
– То-то и страшит, что ни с чего. Я ведь с первого мига увидела, что ты за фрукт, особенно в той линялой компании. Это о них у Блока: «и каждый вечер за брандмауэрами, заламывая котелки, между канав гуляют с дамами испытанные остряки..»
– А ты – «Незнакомка» с картины Крамского. Это мне тоже пришло в первый миг. Выходит, что в «моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты право, пьяное чудовище, ты право, истина в вине…» Я вкусил там, в Азии, что это – «пьяное чудовище». Еле спасся.
– Я сразу отметила твое отвращение к выпивке.
– Но разве родственные души могут ужиться? Они же не от мира сего. Как и сам Блок: ушел из жизни в сорок лет. Сказал: «глухие тайны мне поручены…»
– Ты вправду пишешь стихи? И не боишься?
– Боюсь. Потому и тайком. Но скрывать это от родственной души не честно. Никому раньше я душу эту не открывал. Читаю:
…Четкий профиль. Обветрена медная кожа.
Зачарован предчувствием близкой беды,
Он стоит, чуть сутулясь, пророк ли, прохожий,
Над замшелым гранитом, над тягой воды,
Над толпою, над новою яростью жизни.
Но как прежде таинственна даль и тяжка,
Но как прежде готовятся вороны к тризне.
Пахнет смертью. Ему еще нет сорока.
Пахнут мылом дешевым, шагают деревни
И смеются, читая плакаты с трудом,
Что он ищет, пришелец пророчески-древний,
В Петрограде, до варварства молодом,
Где готовятся в будущем лефы и раппы
С корабля современности с песней и в гик
Без оглядки арапником выгнать арапа,
Что из глины их вынул и дал им язык.
Можно быть благородным и быть благодарным,
Быть с эпохой, но как с этой мудростью быть,
Если знаешь – Истории зубы коварны
И проклятия времени не избыть,
И багровое солнце влечет и тревожит,
И усталое сердце вбирает века
И века, и в любое мгновение может
Оборваться. Ему еще нет сорока.
Окно слезилось дождем. В глазах ее стояли слезы.
– Господи, откуда ты такой взялся? Упекут за решетку, нутром чувствую.
– Не преувеличивай.
С музыкой тяжко. Ожившая в звуках память обжигает, потому что ослабленная течением дней, недель, лет, суетой, книгами, снами, желанием забыть и отдаться свежему потоку впечатлений, бездумно подставив ему лицо, – в музыке она сбрасывает весь этот покров, предстает жалящим языком огня. Огонь всей прожитой жизни бьет в узкую щель часа. Вечный огонь памяти. Увидишь в накрывающей с головой суете вечный огонь – всё мгновенно отлетит, проникаешься простым, как земля, вода, небо, смыслом: где бы ни был, чем бы не занимался, сначала кажется, что можно отвлечься. И в первые звуки Соль-минориой сороковой симфонии Моцарта вовлекать зал филармонии, поскрипывание кресел, покашливание, скрытый свет плафонов. Испытывать успокоение, про себя повторяя знакомую мелодию, и, значит, каждый следующий ее поворот не таит для тебя ничего неожиданного. Даже подпевать про себя. Пытаться закрепить себя на слаженной работе скрипок, мелькании множеств смычков, словно бы извлекающих чистый поток воды, дающих этому потоку быстроту, напор, бег, исчезновение и снова – нарождение. Летит поток, легко, а над ним – порожденная им, как призрачное замершее облако солнца и брызг – сама музыка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: