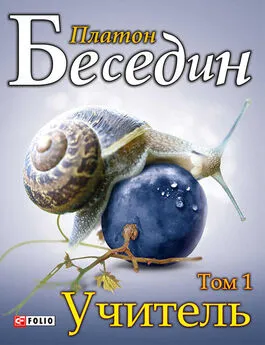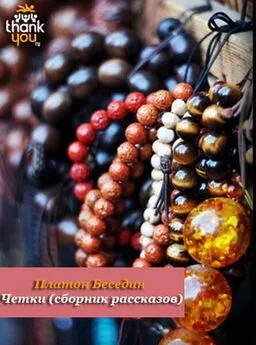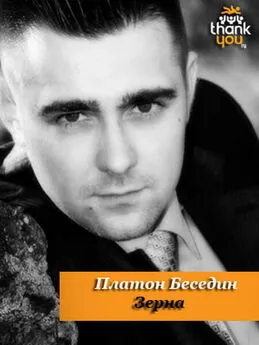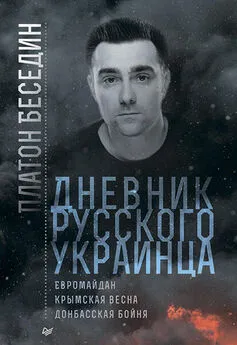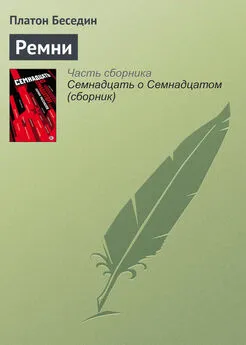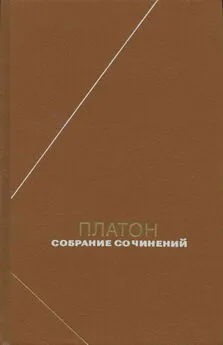Платон Беседин - Учитель. Том 1. Роман перемен
- Название:Учитель. Том 1. Роман перемен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2014
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-03-6935-1, 978-966-03-6936-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Платон Беседин - Учитель. Том 1. Роман перемен краткое содержание
«Учитель» – новое призведение одного из самых ярких писателей Крыма Платона Беседина, серьезная заявка на большой украинский роман, первое литературное исследование независимой Украины от краха СССР до Евромайдана. Двадцать три года, десятки городов, множество судеб, панорама жизни страны, героя на фоне масштабных перемен.
«Учитель», том 1 – это история любви, история взросления подростка в Крыму конца девяностых – начала двухтысячных. Роман отражает реальные проблемы полуострова, обнажая непростые отношения татар, русских и украинцев, во многом объясняя причины крымских событий 2014 года. Платон Беседин, исследуя жизнь нового «маленького человека», рассказывает подлинную историю Крыма, которая заметно отличается от истории официальной.
Учитель. Том 1. Роман перемен - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мадьяр взвесил топор на руке и отошел. Весь я превратился в ожидание, оставляющее сотни морщин.
Закрыл глаза. Единственное движение, на которое оказался способен. Скрученные здоровяком руки выламывало ноющей болью, и она ползла вверх по сухожилиям, мышцам, пронзая плечи, переходя в шею. Извивающаяся змея, стремящаяся отравить, одурманить разум.
И вдруг еще один крик. Этот звучал по-другому. Уверенно, властно. Хватка ослабла. Я смог пошевелить руками.
– Вэйки!
Я встал на затекшие ноги. В дверном проеме серой глыбой нависал огромный белокурый мужчина, накинувший на эсэсовскую форму черный плащ. Я почему-то сразу решил, что это офицер. Он изрыгал крики, точно швырял во врагов гранаты. И врагами, я почувствовал это явно, были два фрица, которые собирались отрубить мне голову за попытку украсть зажигалку. Здоровяк молчал, угрюмо косясь на меня, а мадьяр, наоборот, эмоционально, с огромным количеством слюны и жестов, отбивался от «гранат» офицера. Периодически он тыкал в меня мохнатым пальцем и вертел зажигалкой.
Громкость криков офицера постепенно снижалась, и наконец он, как бы соглашаясь, закивал головой. Мадьяр еще эмоциональнее зажестикулировал. Офицер крикнул на здоровяка, и тот, просветлев, выкрутил мне правую руку. Мадьяр же схватил левую и положил на пень.
Офицер подошел. Лицо крупное, бледное, собранное, будто высеченное из мрамора. Он взял торчащий из влажной земли топор и, не примеряясь, быстро ударил по моей пятерне. Не знаю, метил ли он или бил наугад, но два обрубка – мизинца и безымянного пальца – остались на пне. Мадьяр и здоровяк тут же отпустили меня. Я вскочил, задыхающийся, шаленеющий от боли, а еще больше от вида крови, и заорал, выставив изуродованную руку перед собой. Мадьяр засмеялся. Здоровяк дал мне подзатыльник. А офицер молча развернулся и пошел прочь.
Я заметался, кропя землю кровью, и в этом, наверное, был особенный символизм. Мадьяр закурил, схватил палку и несколько раз ударил ею мне по голове, гоня прочь. Я, кажется, плюнул в него и побежал.
Кровь била из раны. Сначала ярко-красная, затем темная, и, мчась по улице, я решил, что умру. Мысли в голове перемешались, но одна была четкой и ясной – оказаться дома.
Меня поймали на углу Лесной улицы. Две женщины, несущие доски, увидели и бросились останавливать. Я сопротивлялся, отбрыкивался, кусался. Одна тут же бросила меня. Но другая, сбитая, крупная, с мужицкими руками, держала крепко, не реагируя.
Они перевязали рану, обработав ее свекольным соком. И отвели домой.
– Вычухался я, – договорил дед и швырнул яблочный огрызок в канаву. – Жесточее с ворами надо…
Стоя с выкопанным деревом в руках, я вспоминаю историю деда, и воображение, гипертрофированное от чтения книг, на миг пуляет картинку физрука, выбегающего из школы с топором в руках. Оставить дерево. Так будет правильнее. Но мысль о том, что без этого свидание с Радой потеряет смысл, перевешивает, и все-таки я ухожу с деревом, завернув его в мокрую тряпочку. Прячу добычу на «Спартаке».
А затем приговариваю время, шляясь по Абрикосовому переулку. Дома здесь одноэтажные, неказистые. Двухэтажный только один, но в нем никто не живет. Отделанный по углам серой плиткой, он выкрашен в светло-красный. Шторы задернуты. За домом никто не ухаживает, не следит, не латает. Но своего внешнего вида он не меняет. Во дворе – сухие деревья, высокий бурьян, жуткие ржавые качели. Их видно с улицы. В деревне вообще все видно с улицы. Заборы низкие, поднял ногу – перемахнул.
Светло-красный дом опустел, когда я был совсем маленьким. Говорят, в нем доживала век старая бабка, работавшая при Брежневе ветеринаром. При Горбачеве ее выгнали из колхоза. И она возненавидела Михаила Сергеевича. Еще и потому, что любила водку, а при Горбачеве пить стало сложнее. Надо было вертеться, изгаляться, придумывать. Бабка же, говорят, была ленива.
Сначала она сидела на крыльце. Метила проклятиями в проходящих, проезжающих. Но все привыкли. Это ее бесило. И она пошла по селу, бомбардируя проклятиями. Люди терпели, жалели. И это разозлило ее еще больше. Она стала черная, как смола, и заперлась в доме. Рассказывают, что когда маленькие девочки слышали ее вопли, доносящиеся из светло-красного здания, то покрывались черными пятнами.
Соседи терпели ор, а после, не выдержав, застучались в двери, надеясь утихомирить. Но бабка не открывала. Со временем ее вопли перешли в завывания, точно раненый зверь попал в капкан.
Зимой на серой «Волге» с разбитой передней фарой к ней приехало двое: обрюзгший мужчина и молоденькая женщина. Они припарковали машину у раскидистого ореха. Постояли, покурили. И зашли в дом, чтобы пропасть навсегда.
Через неделю кто-то вызвал милицию. Приехал Сема Рогочий; сейчас больше похожий на похмельного бегемота, а тогда еще юный, стройный, белокурый. Он зашел в светло-красный дом и выскочил, говорят, уже полысевший.
Затем приезжали еще два десятка милиционеров. Другие ведомственные. Искали, рыли. Но хоронить – это в селе знают точно – никого не хоронили.
История, конечно, сумрачная, с душком, где на один факт, как на шампур, насажен пяток дурных баек. Но заходить в светло-красный дом – никто не заходит. Вот он и стоит нетронутый, девственный в своей монументальной угрюмости.
Впрочем, весь Абрикосовый переулок – особенно ранней, чавкающей влажным снегом зимой – чудовищен. Похожий на набитую грязью и калом кишку с непереваренными зернами, какие обычно бывают у куриц, он утыкается в заброшенную ферму. За ее бетонным забором, изрисованным угольными надписями и рисунками преимущественно генитальной тематики, еще пасутся несколько дистрофичных коров. Пасутся они всегда молча, будто нет сил, чтобы мычать. Фоном их молчаливому, покорному умиранию – обглоданные украинской независимостью скелеты развалившихся зданий. В дальнем конце фермы, у зеленого строительного вагончика, пошатываясь, бродит сторож – дядя Митя, который «когда трезв, то Муму и Герасим, а так он война и мир».
Он был другим, до развала Союза. Крепким, подтянутым, с подкрученными гусарскими усиками. Мы с дедом Филаретом приезжали к нему на ферму за колхозным зерном на стареньком «москвиче», в салоне которого вечно пахло солярой. Меня одевали в замызганные комбинезоны, которых я очень стеснялся. А от того, что никак не мог освоиться среди деревенских мужиков, я комплексовал еще больше. Суетился, пытался угодить деду, а он злился, потому что, мельтеша, я только вредил.
Зерно падало из металлической трубы на бетонный пол, шебарша, как пчелиный рой. Люди ведрами насыпали его в мешки. Тащили на прямоугольные весы с грузиком на каретке и ругались за каждые десять грамм. У весов стоял дядя Митя. Он, видимо, уважал деда, потому что позволял ему больше других. И вообще вел себя, несмотря на разницу в возрасте, по-дружески.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: