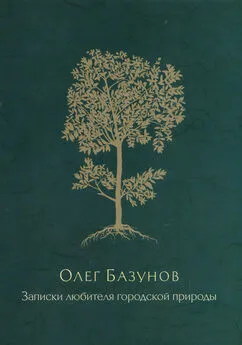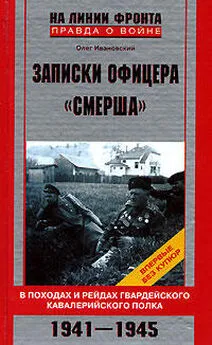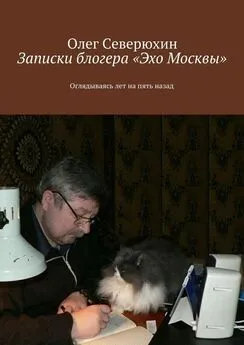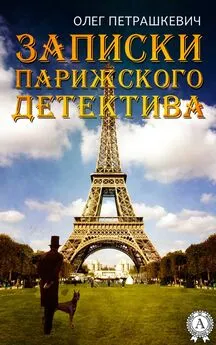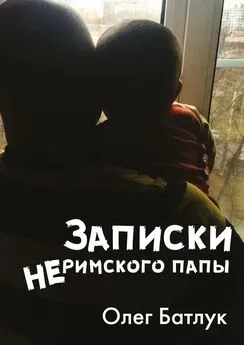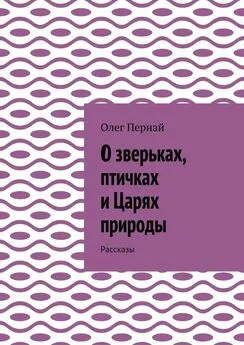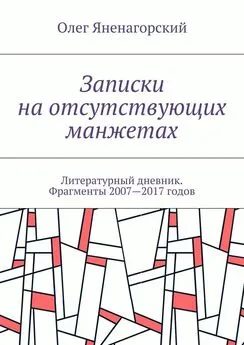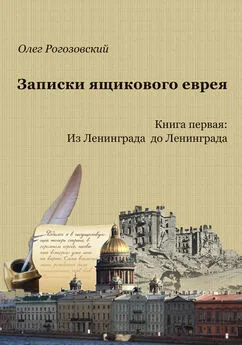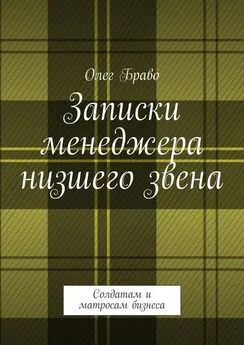Олег Базунов - Записки любителя городской природы
- Название:Записки любителя городской природы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ИП Князев»
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-244-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Базунов - Записки любителя городской природы краткое содержание
Записки любителя городской природы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Олег Базунов не принадлежал к горделивому андерграунду замкнутому литературному подполью, куда его впоследствии кое-кто пытался зачислить. По натуре он был человеком открытым, человеком с активным общественным темпераментом; в нем, по словам Ольги Миттельман, «жил неуемный просветитель, даже – пропагандист, разумеется, близких ему идей». И все же образ домоседа, «охотника сидеть дома» (по Далю) Олегу вполне приличествовал. В сентябре 1968 года Любовь Дмитриевна писала его соученику по «подготу»: «Вы спрашиваете про Олега. Он семьянин, у него чудесная, умная жена, но так уже вся в его власти. Двое детей – девочки. Олег не пьет, не курит. Любит только семью и книги. Любит также старину, особенно русскую. Пишет какую-то очень большую философскую писанину, но нам с Виктором читать не дает. Давал двум большим писателям. Те говорили Виктору, что вещь совершенно замечательная, но непроходимая…»
Положение домоседа, пишущего что-то «в стол» и необходимого литературе, – неслучайный штрих базуновской биографии, изобиловавшей моментами, казалось бы, несовместимыми. Даже неплохо знавшим его друзьям он представлялся личностью резко контрастной. Правда, наделенной контрастами не только от рождения, но и с возрастом приобретенными, такова уж была дерганая кардиограмма его судьбы.
По впечатлениям Бориса Сергуненкова, Олег «сочетал в себе два противоположных качества: это был эстет и аскет. На его письменном столе рядом со стопкой листков рукописи лежал рваный кусок железного крюка, подобранный им на трамвайных линиях, которым он не только любовался сам, но и заставлял любоваться своих гостей: „Какая мощь, какая красота!“ Весной рабочие спилили тополь возле его дома. и он втащил по лестнице на третий этаж огромный ствол тополя – целое дерево, поставил в бак с водой, и тополь зеленел у него, заняв половину комнаты, пока не опал, до глубокой осени. Он любил хорошую одежду, хотя по бедности не мог ее приобрести, ходил в поношенных брюках и в свитере с кожаными заплатками на локтях, любил красивый и вкусный обеденный стол, хорошее вино, старинную мебель, антикварную посуду, чистую постель, свежие цветы… И вместе с тем это был аскет, духовный человек, мыслящий и взыскующий истины, Града Небесного. Он избегал грубой речи, неразборчивых знакомств, пьянства, скабрезностей. Он часто и подолгу постился, годами жил на одной овсяной каше, хлебе и воде» [4] Дружески благодарю Б. Н. Сергуненкова (члена нашего литобъединения) за разрешение использовать текст его неопубликованных воспоминаний.
.
За контрастными проявлениями характера, за настороженной манерой поведения таился мучительный духовный процесс. И. Рожанковская, подтверждая, что Олег жил «в святой нищете, на которую не роптал, а скорее изумлялся, как это он выживает» – «перенасыщенный мыслями», «сверхчувствительный до мнительности», – стремился к простоте, той, что выше сложности, и ценил в других нравственную опрятность. Прочитав впервые стихи Николая Рубцова, он, человек городской и вроде бы книжный, услышал в них «родной ему звук предельной чистоты и прозрачности» и был, по словам И. Рожанковской, этими стихами «утешен и обнадежен», ликовал и плакал от восторга.
Напряженный духовный процесс «открытия себя в себе» имел свои истоки, свои взлеты и падения, свои явные и неявные грани и границы. Начальная веха была обозначена в «Триптихе», где автор, как помним, заявлял, что им наконец-то сделаны некоторые важные выводы и что он более или менее последовательно проводит их в жизнь. В результате, как уверен Б. Сергуненков, «где-то в середине жизни» с Олегом произошло преображение, то, что древние греки называли метанойя, и он окончательно освоился в той творческой позиции, когда художник пишет не «себя в Горе», а «собой пишет Гору», о чем мечтал еще герой «Холмов, освященных солнцем».
Процесс духовного преображения подпитывался различными обстоятельствами. Свою роль сыграл здесь обширный, но весьма избирательный круг чтения, простиравшийся от добиблейской мифологии, святоотеческой литературы, Платона и Данте до Гоголя и Достоевского, Вячеслава Иванова и по-особому чтимого Райнера Мариа Рильке. Философская начитанность, знание мировой литературы, эстетические предпочтения Олега в искусстве – предмет отдельного разговора. Равно как отдельного разговора заслуживают аллегорическое содержание базуновской прозы, выяснение ее художественных истоков и определение тех нравственных сверхзадач, которые в первую очередь продиктованы, по-моему, моральным императивом автора «Выбранных мест из переписки с друзьями».
В 1960-е годы Олег интересовался антропософией Рудольфа Штейнера, разного толка духовными трактатами, выискивал у букинистов, как сообщает Б. Сергуненков, редкие книги Блаватской, Безант, Шюре, Папюса, труды по восточной и христианской теологии. Его привлекала литература «философствующего чувства», провозглашавшая органичное слияние человека со Вселенной, – чтение именно такой литературы, по мнению Б. Сергуненкова, привело Олега в конце концов в лоно Русской православной церкви.
Думаю, это не совсем так. У религиозности Олега были устойчивые семейные корни, путь в Церковь начинался у него издалека – в доме на канале, где царила атмосфера, какую ощущаешь в старинных петербургских квартирах, вобравших в себя дыхание длинной череды поколений, для которых религиозность, сам быт, расписанный по православному календарю, были так же естественны, как и евангельское понимание человеческого достоинства. И любимая бабушка Мария Павловна, и, воплощенная святость, тетушка Матюня, умершая в блокаду, и матушка, ригористически веровавшая в Бога Любовь Дмитриевна, знали силу притяжения их намоленного родного угла.
Они, собственно, эту крепкую силу, каждая по-своему, олицетворяли, и Олег, с его обостренной восприимчивостью, такого притяжения избежать не мог. Тяготение к Церкви он до поры до времени никак не афишировал, но в какую-то трудную минуту строгое подчинение церковному уставу стало для него насущной потребностью. И даже ближайшие друзья эту перемену обнаружили не сразу
И. Рожанковская вспоминает: «Как-то он исчез на год или более, а когда позвонил, то начал с важного вопроса: считаю ли я себя христианкой? До этого откровенных разговоров на эту тему у нас не было. А тут он признался, что ходит в Никольский собор – молится, исповедуется и причащается». У Олега, судя по всему, уже вконец расстроилось здоровье. И. Рожанковская вспоминает, что ради укрепления здоровья он бегал по утрам, голодал по определенной схеме, не ел мяса и рыбы, но вегетарианство его было «нравственным, а не диетическим». Потом прогрессировала преследовавшая его в последние годы болезнь Паркинсона. У Олега изменилась походка, он исхудал, истончился и в глазах И. Рожанковской «стал похож на апостола Павла с картины Эль Греко».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: